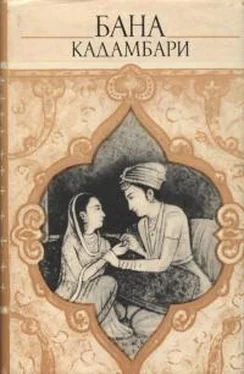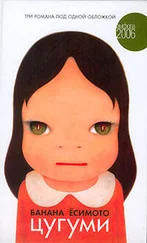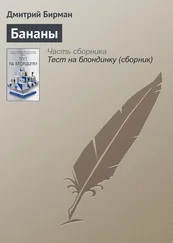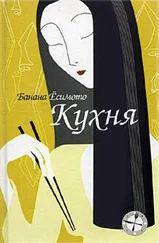Серебряков И. Д. Литературный процесс в Индии (VII—XIII вв.). М., 1979. С. 51—56; Серебряков И. Д. Очерки древнеиндийской литературы. С. 174—179. В той же мере сомнительно высказанное здесь же утверждение И. Д. Серебрякова, что изысканность стиля «Харшачариты», игра слов и иные украшения — это своего рода «эзопов язык», маскировка под официальное славословие, призванная скрыть критическое отношение Баны к своему царственному патрону. Остается неясным, почему тот же украшенный стиль свойственен и «Кадамбари», и «Васавадатте» Субандху, да и вообще большинству дошедших до нас памятников санскритской литературы.
Поскольку Бхамаха и Дандин указывали, что рассказчиком акхьяики должен быть ее главный герой, в «Харшачарите» можно усмотреть отклонение от этого требования, так как не главный герой (Харша), а Бана выступает в роли повествователя. Но, во-первых, Бана — не сторонний повествователь, а свидетель описываемых событий, и, например, Бходжа в поэтике «Шрингарапракаша» допускает, что акхьяика может рассказываться спутником героя. А во-вторых, и эта тонкость со временем стала казаться несущественной, и Вишванатха в «Сахитьядарпане» пишет: «Некоторые говорят, что акхьяика должна рассказываться только самим героем, но это неправильно: как утверждал Дандин, «в акхьяике ведут рассказ и другие ‹чем герой, персонажи›; здесь нет ограничения» [СД, с. 467].
Так, перед третьей главой, которую Бана по просьбе друзей начинает с рассказа о том, как предку Харши Пушпабхути было обещано богами великое потомство, имеются стихи: «Преданные благу своей страны (или: увлажняющие землю своими дождями), окруженные множеством любящих подданных (или: в изобилии дарующие людям пищу), цари, словно благие сезоны года, появляются на свет благодаря заслугам своих предков. Кому не хочется послужить добродетели, увидеть богиню славы, попасть на небеса, а также услышать о деяниях великих духом?» [ХЧ, с. 128]. Пятая глава, в которой речь идет о смерти отца и матери Харши, открывается стихами: «Судьба, даруя людям счастье, затем ‹повергает их› в тяжкое горе, словно мгновенная молния, которая, освещая мир, затем обрушивает на него гром. Так же как Ананта — горы, время безжалостно повергает в прах многих великих людей» [ХЧ, с. 210].
Kāle M. R. Introduction // Bāṇa’s Kādambarī / Ed. by M. R. Kāle. Delhi, 1968. P. 33.
Poets, dramatists and story tellers. New Delhi, 1980. P. 55.
Здесь игра словами: Bāṇa (Бана) и Paṅcabāṅa — «обладающий пятью стрелами», то есть бог любви Кама.
Тоже игра слов: vāṇī, или bāṇī («искусство поэзии») созвучно имени Bāṇa (Бана); Шикхандин — герой древнеиндийского эпоса «Махабхараты», родившийся девушкой.
Цит. по: Kāle. Op. cit. Р. 35—36; см. там же аналогичные высказывания.
Karmarkar. Op. cit. P. 76; Серебряков С. Д. «Свое» и «чужое» в новом индийском романе // Генезис романа в литературах Азии и Африки. М., 1980. С. 234.
В нескольких рукописях он также назван Пулиной или Пулиндой.
Weber A. Analyse der Kādambarī // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 7. 1853. S. 583.
Weber A. Indische Streifen. Berlin, 1868. S. 368.
«Великий сказ» повествует о приключениях верховного повелителя видьядхаров Нараваханадатты; в «Катхасаритсагаре» и «Брихаткатхаманджари» дочерями царей видьядхаров являются обе героини, Макарандика и Маноратхапрабха, к роду видьядхаров принадлежат и оба героя — Рашмимат и Сомапрабха (последний назван «видьядхарой, другом Индры, сошедшим на землю» [КСС X.3.66]).
Этиологическая концовка вставлена, конечно, уже в текст Бхушаны, а не Баны. Но она не просто согласована с основным повествованием романа, а многое объясняет в нем и потому выглядит вполне аутентичной.
Поэтому Чандрапида в «Кадамбари» однажды называет месяц «владыкой трав» (oṣadhipati) — древним эпитетом Сомы, используемым еще в брахманах [Кад., с. 303; Перевод, с. 298].
По-видимому, в древнейшем слое лунных мифов луна, как правило, воплощает мужское, а солнце — женское начало (мотив свадьбы луны и солнца). В индийской мифологии, во всяком случае, Сома/Чандра всегда олицетворяет мужское начало, ассоциируется с семенем, жизненной силой [Мбх. V.45], является источником мужества [Ав. V.89.1].
То есть в океане, где жила Лакшми до его пахтанья богами и асурами. Все сравнения этого отрывка (с месяцем, амритой, змеем Васуки, звездами, слонами — хранителями мира) связаны с мифом о пахтанье и тем самым как бы предполагают «приравнивание» ожерелья Шеши к камню Каустубха, который в перечислении не случайно отсутствует.
Читать дальше