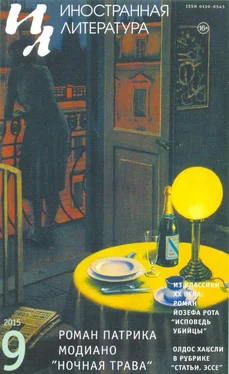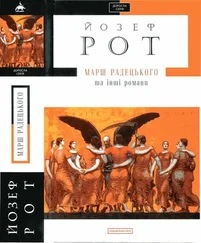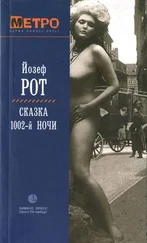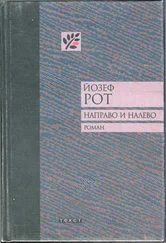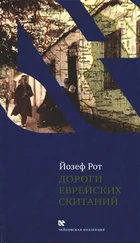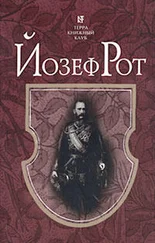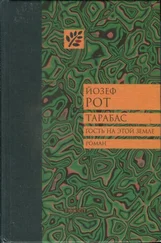Когда не вполне уверенный в своих силах я вышел на улицу, уже серело мягкое, зимнее утро. Моросил тихий, приятный дождь, какой у нас в России бывает только в апреле. А поскольку мои мысли и без того путались, в какой-то момент я перестал понимать, который час и где я нахожусь. Удивленно и несколько испуганно я наблюдал за тем, с каким рвением меня обслуживает персонал гостиницы. Мне пришлось вспомнить, что вообще-то я — князь Кропоткин.
Вскоре свежий утренний дождик привел меня в сознание. Получилось так, словно именно дождь сделал из меня князя Кропоткина. Если точнее — парижского князя Кропоткина. Тогда мне казалось, что парижский намного выше русского. На мою непокрытую голову и осунувшиеся плечи лил мелкий ласковый дождь. Я долго стоял перед главным входом в гостиницу и чувствовал, как мне в спину почтительно смотрят ее служащие, стараясь казаться равнодушными. Мое профессиональное чутье подсказывало мне, что в этих взглядах сквозит настороженность. Мне нравилось, что они на меня смотрят, мне нравилось, что идет дождь. Парижское небо благословляло меня. Уже наступило парижское утро. Мимо меня бодро прошел почтальон, от него исходило невероятное спокойствие. Город просыпался. И я, не как Голубчик, а как настоящий парижанин Кропоткин, зевнул. Зевнул не только от усталости, но и от высокомерия, и в высшей степени небрежно, прямо-таки барственно прошел под благоговейными и в то же время недоверчивыми взглядами персонала гостиницы, чьи согнутые спины предназначались Кропоткину, а глаза — сыщику Голубчику.
Смущенный и усталый я рухнул в постель. По подоконнику монотонно барабанил дождь.
Я решил, или, если хотите, вообразил, что начну новую жизнь с нового гардероба. Я вызвал к себе одного из тех никудышных закройщиков, что одевали в то время сильных мира сего. Я начал истинно новую жизнь, подобающую князю. Пару раз я был приглашен к портному моей любимой Лютеции. Пару раз приглашал его. Поверьте, друзья мои, поскольку все мои тогдашние мучения остались позади, я теперь могу откровенно, как я это и делаю, без высокомерия и чванства вам сообщить, что тогда я был чрезвычайно способен к языкам. Очень способен. В течение одной недели я почти свободно заговорил по-французски. Во всяком случае, я уже мог бегло общаться с портным и его девушками, которые знали меня со времен нашей поездки. Я говорил и с Лютецией. Конечно, она помнила меня. Помнила благодаря инциденту на границе, моей фамилии и, наконец, тому вечеру в купе. В то время я был всего лишь обладателем фальшивой фамилии. Я уже давно не был самим собой. Не став Кропоткиным, я перестал быть Голубчиком. Я словно был подвешен между небом и землей. Или более того: между небом, землей и адом. И ни в одной из этих сфер я не чувствовал себя своим. Где я, в сущности, был и кем? Голубчиком? Кропоткиным? Был ли я влюблен в Лютецию? Любил ли я ее или только нового себя? Изменился ли я на самом деле? Лгал я или говорил правду? Порой я думал о моей бедной-бедной маме, жене лесника Голубчика. Она ничего обо мне не знала, я совсем исчез из поля зрения ее стареющих глаз. У меня больше никогда не будет мамы, моей мамы! У кого еще на всем белом свете нет мамы? Я был потерян и опустошен. Но чтобы вследствие совершенных мною мерзостей испытывать еще и определенное чувство гордости, я рассматривал свое положение как некий знак отличия, уготованный провидением.
Постараюсь быть кратким. После нескольких совершенно бесполезных визитов к известному столичному портному, чьи работы я похвалил, — он сам и все газеты называли их шедеврами — мне удалось завоевать у Лютеции тот особый вид доверия, который между двумя людьми означает торжественное обещание. Через некоторое время я имел сомнительное счастье быть гостем в ее доме.
В ее доме! То, что я назвал «ее домом», было бедненькой гостиницей, просто-таки домом свиданий на рю де Монмартр. У нее была всего одна комната, на желто-коричневых обоях которой неустанно повторялись два вечно целующихся попугая, ярко-желтый и снежно-белый. Они ласкались почти как голуби. И эти обои задели меня. Да, именно эти обои. Мне показалось недостойным Лютеции, что в ее комнате попугаи ведут себя, как голуби. И что там вообще попугаи. Я тогда терпеть их не мог, а заодно и голубей. Почему? Не знаю.
Я принес цветы и икру. Два подарка, которые, как мне тогда казалось, подходят русскому князю. Наша беседа была долгой, подробной и задушевной.
— Вы знали моего кузена? — бесстыдно спросил я.
Читать дальше