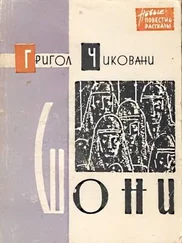Тамаз встал и медленно приблизился к ней.
— Хочешь, я прочту тебе что-то новое? — спросил он ее.
— Я прошу тебя об этом,— ответила она таким тоном, как будто желала утолить мучительную жажду.
Тамаз начал читать. Его книга была разделена на семь циклов. Возможно, Тамаз верил в ирано-семитское сакральное значение цифры семь. Каждое стихотворение, как и каждый цикл, представляло собой завершенное целое и вместе с тем только часть его. Из стихотворений была изгнана лживая рифма, ибо поэтическая истина не нуждается в искусном облачении и ей следует проявить себя иначе — как проникновенное слово. Здесь слово обладало стихийной, первородной силой, цветом и запахом, а также звуком. Здесь все дышало первозданностью. Метафора не была просто красивым сравнением, она давала яркое отражение сути вещей. От каждого образа веяло первобытностью. Казалось, Тамаз нашел в своей книге утраченные части эпоса о Гильгамеше. Он описал любовь к женщине, живой и вместе с тем мистической. Это была любовь к Исиде и в то же время любовь естественная, реальная. И тут молнией сверкнуло крыло ласточки.
— Как прекрасно,— сказала женщина,— возвращение ласточки в свое гнездо. Я была знакома с одним старым горцем, который одну такую ласточку узнавал. Он даже разговаривал с ней.
Перед глазами возникали одна за другой картины:
— ...семьсот детей на берегу. На траве еще не просохла роса. Туман плывет над водой. Это дыхание семиста детей. Они склоняют головки к воде — белые, пепельные, черные, рыжие, каштановые. Все жадно пьют. Один ребенок делает последний глоток и поднимает головку. А может быть, он смотрит на небо? Затем то же самое делает второй ребенок, за ним третий, четвертый — все семьсот детей смотрят в сизое небо, начинающее рдеть. Дети чуят солнце...
— Чудесно! — воскликнула Ната.— Я часто видела такую картину. Порой не знаешь, что умилительнее: детские животики, наполненные свежей водой, или их большие глаза, глядящие на восходящее солнце.
Снова наступило молчание. Тамаз, как зачарованный, глядел на Нату. Он продолжал читать:
— ...лошадь несла женщину так, как бегущий олень отбрасывает свои рога назад, чтобы защитить их от удара...
— Однажды я видела такого бегущего оленя,— сказала Ната.— Это было чудесное зрелище!
Пауза. Тамаз продолжал читать, то и дело бросая на Нату восторженный взгляд:
— ...С вершины горы был виден ночной небосвод. Он только-только начал бледнеть, постепенно светлея. Туман у подножия медленно, нехотя уплывал. Оранжевые тона вдали проступали все ярче, переходя в гранатовый цвет. И вдруг сверкающая даль разверзлась и выплыло кроваво-красное сердце. Качнулось. Земля движется в такт сердцу. Казалось, настал конец света Душа содрогается: в сердце, в твоем сердце зарождается вдруг нечто новое, неведомое. Неизведанная радость. Солнечное сердце уже не покачивается больше, и твое сердце осеняет покой...
— Таким сердцем обладаешь ты,— сказала Ната Тамазу. Он был счастлив.
Ната видела в этих стихах свое отражение, но в то же время та женщина была
для нее далеким и чуждым существом Странно, она ощущала в этих стихах себя самое и вместе с тем видела в них свою сестру. Книга Тамаза создавала тот душевный настрой, который чудесным образом мог повлиять на ее судьбу. Она чувствовала это.
Тамаз ликовал.
— Прочти, пожалуйста, еще раз то место, где говорится о солнце,— попросила она его через некоторое время.
Тамаз начал читать, спокойно, мягко. Когда он закончил, Ната тихо, таинственно произнесла:
— Тот плод, что я родила, было солнце.
— Ты вспомнила слова, сказанные египетской богиней Найт? — удивленно спросил Тамаз.
— Да, они вдруг пришли мне на ум. Так написано на постаменте ее статуи в Саисе?
— «Я есмь сегодня, вчера и завтра. Никто не снял покрова с меня. Плод, рожденный мною, есть солнце».
— Что подразумевается здесь под снятием покрова?
— Познание женшины Адамом. То, что покров еще никем не снят, должно означать, что она никому еше не принадлежала: ни мужчине, ни богу.
— Но ведь, согласно легенде, Найт была похотливой,— заметила озадаченная Ната.
— В этом как раз и кроется вся тайна,— ответил Тамаз.— Отдаваясь, Найт оставалась непорочной.
— Это для меня загадка.
— Мужчина касается лишь поверхности женщины, а значит...
— ...она оставалась нетронутой.
— Совершенно верно.
Тамаз уже не раз говорил с Натой в таком духе, но впервые столь определенно. Она, казалось, не понимала его. Когда снова погрузилась в дебри подсознания, то слепым своим зрением соприкоснулась с чем-то сказочным, осветившим эту таинственность. Где-то в ней продолжало жить какое-то смутное ощущение, как некий чужеродный плод, аромат которого дурманил ее.
Читать дальше