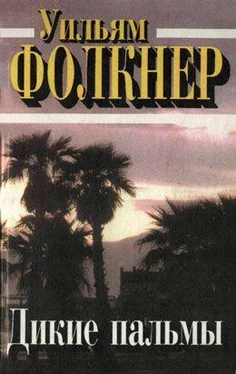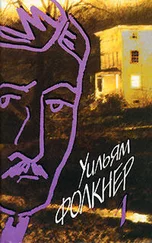И потому он не пользовался ружьем, его оружием были завязанная узлами веревка и тюрингская булава, и каждое утро он и полукровка на двух суденышках отправлялись каждый своей дорогой, прочесывая и осматривая тайные протоки, рассекающие эту потерянную землю, из (или из недр) которой время от времени появлялись невысокого росточка люди с темной кожей, кулдыкавшие на том же языке, они появлялись внезапно, словно по волшебству, из ниоткуда, на таких же долбленых лодках, и тихо следовали за ним, чтобы посмотреть на его поединки, люди по имени Тайн и Тото и Тюль, они были не больше – да и выглядели почти так же – чем ондатры, которых полукровка (их хозяин делал и это, поставлял припасы на кухню, и это он объяснил тем же способом, что предложение о ружье, на своем собственном языке, а заключенный понял, словно все было сказано по-английски: «Ты о еде не думай, о, Геракл. Лови аллигаторов. Заботу о кухне я возьму на себя») время от времени доставал из ловушек, как достают из свинарника нагулявшего вес поросенка, и таким образом разнообразил неизменные рис и рыбу (заключенный рассказал, как по ночам в лачуге, задраив от комаров досками дверь и единственное окно без рамы, – обычай, ритуал, такой же бессмысленный, как складывание крестом пальцев или стук по дереву, – они сидели у изъеденного жучками фонаря, стоявшего на дощатом столе, жара была такой, что кровь чуть не закипала в жилах, и он, глядя на плавающий кусочек мяса в запотевшей тарелке, думал: Наверно, это Тюль. Он был такой жирный); один ничем не примечательный день сменялся похожим на него другим, каждый ничем не отличался от предыдущего и от того, который придет завтра, а его теоретическая половина суммы, которая исчислялась в центах, долларах или десятках долларов, – этого он не знал, – все увеличивалась; одно утро за другим, когда он, отправляясь в путь, обнаруживал, что его, как aficionados [12]своего matador [13], ждут несколько неизменных и почтительных пирог, один трудный день за другим, когда в полукружье маленьких неподвижных посудин вел он свои поединки, вечер за вечером возвращения домой, пироги, одна за другой уходящие в бухточки и протоки, которых в течение первых дней он даже не замечал, потом помост в сумерках, где полукровка перед неподвижной женщиной, вечно хныкающим младенцем и его сегодняшней добычей – одной-двумя окровавленными кожами – исполнял свою ритуальную победную пантомиму возле двух растущих рядов ножевых меток на одной из досок стены; потом ночь за ночью, когда – женщина и ребенок лежали на кровати, а уже похрапывающий полукровка на тюфяке – он (заключенный), поставив поближе коптящий фонарь, сидел, подогнув под себя голые пятки, пот тек с него ручьями, лицо у него было измученным и спокойным, сосредоточенным и неукротимым, его согнутая спина в язвах и ранах была похожа на кусок мяса под старыми гноящимися пузырями и яркими рубцами от ударов хвостом, а он строгал и выдалбливал ту самую обугленную деревяшку, которая теперь была почти похожа на весло, время от времени прерываясь, чтобы поднять голову, вокруг которой с писком кружилась туча комаров, и взглянуть на стену перед собой, и спустя какое-то время грубые доски, казалось, растворялись, и его пустой, невидящий взгляд, которому больше ничто не мешало, уходил далеко-далеко, в плотную бесстрастную темноту, может быть, даже за нее, даже, может быть, за те семь потерянных лет, в течение которых ему, как он недавно понял, было позволено гнуть спину, а не работать. Потом и он тоже отправлялся спать, в последний раз бросив взгляд на сверток за балкой, задувал фонарь и ложился в чем был рядом со своим храпящим компаньоном, и лежал так, покрытый потом (на животе – его спина не выносила никакого прикосновения), в наполненной комариным писком душной темноте, в которой раздавался одинокий рев аллигаторов, думая не: Мне даже не дали времени научиться, а: Я забыл, как это здорово – работать.
А потом на десятый день это случилось. Случилось в третий раз. Сначала он просто отказывался верить в это, и не потому, что считал, что уже получил сполна и прошел полный курс выучки в несчастье, что с рождением ребенка достиг и пересек вершину своей голгофы, и что теперь ему если даже и не позволят, то хотя бы не помешают беспрепятственно спуститься по противоположному склону. Он совсем так не думал. Он просто отказывался принять тот факт, что могущественная сила, вроде той, что проявляла такую настойчивость несколько недель подряд, преследуя его с дьявольской последовательностью, имея в своем распоряжении весь набор вселенского насилия и бедствий, оказалась столь неспособной к изобретательности и фантазии, столь лишенной гордого артистизма и воображения, что пошла на простое повторение себя. Один раз он принял, второй он даже простил, но в третий он просто отказывался верить, в особенности когда он наконец убедился в том, что в третий раз причиной всего будет не слепая сила объема и движения, а человеческие распоряжения и руки, отказывался верить в то, что космический шутник, которого одурачили дважды, в своей настойчивой мстительности теперь остановил свой выбор на динамите.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу