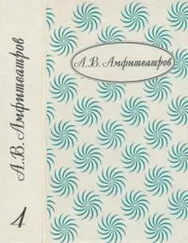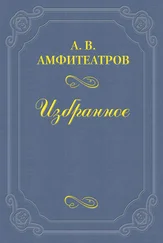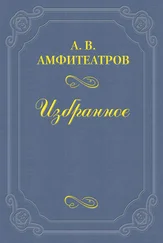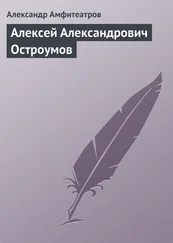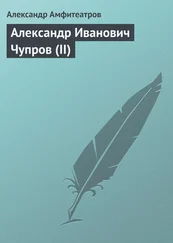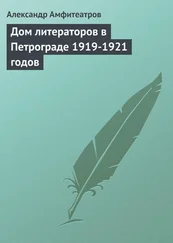Но он серьезно отвечал;
— Боюсь, что я достаточно пьян для этого.
И пошел к дверям. На пороге остановился, как актер, делающий уход, повернул ко мне лицо, белое, как плат, с трясущеюся челюстью, и говорит:
— А ведь я думал, что это вы у нее… Ну, счастлив ваш Бог…
И исчез.
А я понял, что человек этот приходил меня убить, и мне стало холодно.
Опомнившись от смущения, я почувствовал себя в весьма глупом просаке. Почудилось ли Буруну, в самом ли деле, кто есть у Виктории Павловны, — все равно: если эти два пьяные дурака будут топтаться у ее дверей, скандал выйдет всенепременно. А если, паче чаяния, художник прав, то при его трагическом настроении и револьвере в кармане, — пожалуй, и кровавый скандал. Надо пойти и увести их прочь, покуда не поздно… Я быстро оделся и вышел.
Комната Виктории Павловны и терраса, к ней прилегающая, на которой Бурун оставил сторожить Ивана Афанасьевича, выходили в сад, и от меня попасть туда можно было, либо пройдя целый ряд пустых и темных комнат, либо — был у меня выход из соседней комнаты прямо на черное крыльцо, а оттуда, через двор, в садовую калитку. Я так и отправился.
Ночь была, действительно, чудная. Луна светила ярко до бесстыдства, выбелив землю, как снег, и вычернив все тени на ней, как уголь. Соловьев слышно не было, но вдали сотнями голосов кричали и урчали лягушки. На завалинке у амбарушки я приметил две нежные тени и, подойдя ближе, услыхал знакомый, веселый и безалаберный лепет:
— О, Агнеса! Милая Агнеса! Потому что, вообще, ты — Анисья, но в такую ночь ты Агнеса. Я Гейнрих Гейне, а ты Агнеса. Толстая Агнеса. Понимаешь?
Ленивый голос возражал:
— Чего понимать-то? бесстыдники!
Юноша продолжал лепетать:
— Он хотел обмакнуть столетнюю сосну в кратер пылающей Этны и написать на небе золотыми буквами: «Люблю тебя, Агнеса». Сосною! Но здесь нет Этны, нет кратера. И нету столетней сосны, потому что Виктория Павловна давным-давно продала лес на сруб маклаку Ведерникову. Но мы затопим печку, Агнеса! затопим жарко, как стихи! И дай мне полено, хорошее, доброе, русское полено: желаю писать по небу поленом…
— Врущий ты — врущий и есть! — резонировал ленивый голос.
Я окликнул студента. Он весело подбежал ко мне.
Я чувствовал доверие к этому славному малому, знал, что он предан Виктории Павловне душою и телом и будет рад помочь мне расстроить нелепую затею Буруна.
Я отвел его от смущенной и поспешившей стушеваться Дульцинеи и изложил причину, вызвавшую меня бродить полуночным призраком… Студент расхохотался.
— Вот идиоты-то! Вот олухи-то царя небесного! — говорил он. — Да, ведь, это у Виктории Павловны Арина Федотовна. Мы с Агнесою сами видели, как она недавно туда прошла. Еще я удивился, что так поздно. Но Агнеса говорит, что Арина Федотовна едет завтра с утра на базар в Успенское, — так, вероятно, забыла спросить, что барышне купить надо.
У меня — как гора с плеч. Трагедия превращалась в водевиль.
— Ах, жаль — Ваньки нет! — хохотал студент, — с вечера закатился на Осну рыбу ловить. Вот бы он нам изобразил рыцаря этого, печального образа… Ба, да вот и сама Арина Федотовна возвращается…
Фигура ключницы, белая и преувеличенно крупная при лунном свете, шаром выкатилась из калитки и, проворно мелькнув мимо нас, скрылась в своем флигельке.
— Арина Федотовна! — крикнул ей студент, — все ли благополучно? Соглядатаев-то видели?
— Уморушка! — отвечала она на-ходу, задушевным голосом, трясясь от смеха.
Мы не спали в эту ночь часов до двух — до белого утра. Сперва, сидя на крылечке, а потом — у меня в комнате, куда явились и герои глупого приключения, сконфуженные, что называется, до пуговиц, а Иван Афанасьевич еще и еле на ногах стоящий: столь наугостился. Он был сконфужен, весело хихикал, потирал руки, ухмылялся всем своим, разрумяненным от хмеля, лицом. Художник, наоборот, был бледен и мрачен, точно промах ревнивого подозрения, который должен бы, судя по здравому смыслу, его обрадовать, его несказанно огорчил… Лица у обоих — и смеющееся, и унылое — были удивительно смешные и глупые.
— Кабаллерос, — встретил их студент, — даю вам честное слово: на конкурсе дурацких рож вы получили бы первые премии.
— Отстань! — рыкнул Бурун.
А Иван Афанасьевич залился резким смешком и бессмысленно повторял:
— Да что же-с? Уж такая вышла оказия…
Студент посмотрел на него и рукою махнул:
— Эх вы!.. Красноносая оказия.
— Ну, что этот с ума сходит, — зло сказал я, ткнув пальцем в Буруна, — хоть сколько-нибудь объяснимо: влюблен до одурения, ревнует, мучится… Но вас-то, Иван Афанасьевич, вас-то кой чёрт понес на эту авантюру? Да, — что бы там вам ни было, кто бы там ни был, — вам-то какое дело? Пьяный вы человек! нелепый вы человек! ну, какое вам дело?
Читать дальше