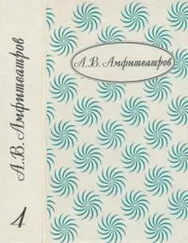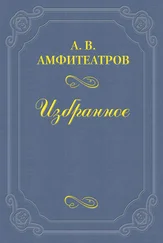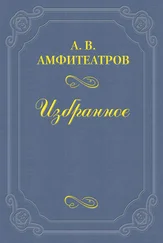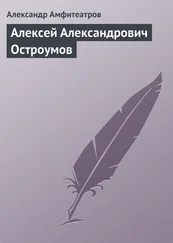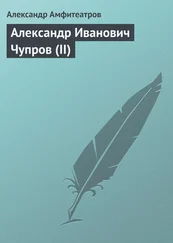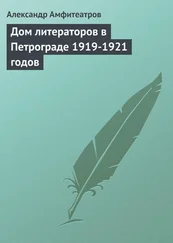— Для меня, — наоборот, — она, с некоторого времени, каким-то бичом сделалась. Каждый мой кошмар— непременно, с нею. Это, по крайней мере, пятый раз, что она приходит мучить меня… А, покуда она жила на земле, я не видала ее во сне — никогда… И… кто знает, — не справедливы ли ваши сомнения? Точно ли эти сны наши — только сны?
Иван Афанасьевич, подумав, возразил:
— Не умею вам ответить, но пусть уж лучше будет сон, потому что, ежели бы подобное наяву, — это что же? сойти с ума от страха.
Виктория Павловна, не отвечая на его сомнение, говорила, рассуждая больше с самою собою, чем с ним:
— Экзакустодиан убеждал меня, что она — наваждение дьявола… Я читала: индусы верят, что люди грешные, по смерти, превращаются в злых духов, бутов, обращающих свою ярость на людей, которые были им близки, и на местности, в которых они обитали…
— Если подобное может быть вообще, — горячо подхватил Иван Афанасьевич, со всею злобою ненавидящего труса, — то, уж конечно, больше этой окаянной — я и не знаю, кто бы годился, чтобы превратиться в злого духа… Ах, Виктория Павловна! — воскликнул он, — перенести этого воспоминания невозможно, сколько зла и горя она мне причинила!.. Да уж позвольте взять на себя смелость — сказать правду в глаза: и вам тоже, и вам!..
— И мне, — угрюмо согласилась Виктория Павловна.
Он, ободренный, твердил:
— Может быть, даже больше моего, наверное, значительно больше-с…
— Больше, — подтвердила и Виктория Павловна. — Ну, вот вам ночник, не трусьте…
Она перешла через комнату, направляясь к дверям своей спальни.
— Уходите? — жалобно, по мышиному, пискнул Иван Афанасьевич.
— Надо же когда-нибудь и спать…
Но, пристально взглянув на него, прочитала в его глазах почти смертельный ужас — остаться одному, с трудом заслоняемый стыдом сознаться в том и страхом пред нею, не осмеяла бы, не оборвала бы… Но ей и самой было не до смеха: суеверный страх Ивана Афанасьевича заражал ее, и она крепко сжимала обеими руками холодный графин, чтобы они не плясали.
— Не бойтесь, — попробовала она пошутить, — будем надеяться, что почтенная Арина Федотовна ограничится одним визитом и больше к вам не пожалует…
Он возразил серьезно и выразительно:
— Я боюсь, что она к вам пожалует…
— Это ребенка-то красть?
Он промолчал. Виктория Павловна продолжала:
— Ну, Иван Афанасьевич, это уж и стыдно. Как ни как, а смолоду и вы учились кое-чему, принадлежите к образованному классу, должны понимать, что это невозможно…
Он перебил даже как бы с отчаянием:
— А откуда нам с вами, Виктория Павловна, знать, что возможно, что невозможно? Вон, вы думали сколько лет, что иметь ребеночка вам невозможно, а, между тем, носите… Конечно, глупое деревенское суеверие, но почему же подобная нечисть всегда вертится вокруг беременных? Объясните подозрение: почему? И как это случилось, что в эту ночь мы оба разом увидали ее в угрожающем образе и проснулись в общем, так сказать, испуге?… И… вы можете полагать, как вам угодно по вашему образованию, но я — извините — позволю себе, на этот раз думать, что отец Экзакустодиан судит основательно: истинно, наваждение от нечистого духа… Хорошо, что мы во время вспомнили имя Божие, и ангелы-хранители душ наших поторопились — дали нам пробуждение от сна…
— Вы, во сне, очень испугались за ребенка? — спросила Виктория Павловна — с глубоким любопытством.
Иван Афанасьевич отвечал почти с негодованием:
— Как же было не испугаться? Небось, он — мой!
Это было в первый раз, что Виктории Павловне пришлось услышать его отцовское притязание на плод ее тела…
— Сначала я был в отце, потом приняла меня мать, но как общее нам обоим…
Потупилась и, ничего но сказав, направилась к двери. Но, пока шла, ей с тою же яркостью, как в только что бывшем сне, представилось, что — едва она отворит дверь — Арина сейчас же опять померещится ей на «катафалке»… Может быть, это будет просто подушка или сбившееся одеяло, но — оттого не легче… В призраке не образ пугает, а скрывающаяся за образом мечта… И, уже чувствуя на пальцах холод дверной ручки, обернулась, бледная, с трясущеюся челюстью…
— Не могу, — произнесла она, спешно ставя графин на близ стоящий диван, чтобы не выпал из задрожавшей руки. — Напрасно храбрилась… Боюсь пуще вас…
И — села.
Иван Афанасьевич смотрел на нее с недоумением и — когда понял, что она не уйдет — загорелся от того единственною радостью: что— слава тебе, Господи! не останется он один в комнате, где ему почудилось привидение. А она, помолчав, продолжала:
Читать дальше