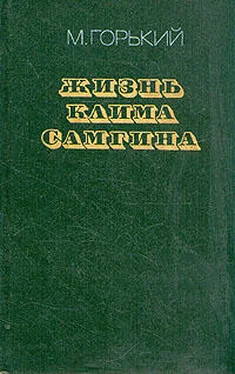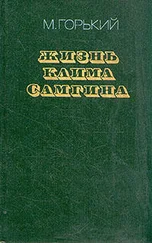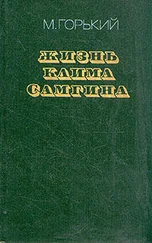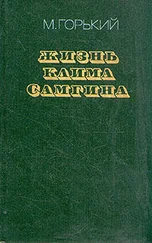«Мог бы я бросить бомбу? Ни в каком случае. И Лютов не способен. Я подозревал в нем что-то... своеобразное. Ничего нет... Кажется – я даже чего-то опасался в этом... выродке». И, почувствовав, что он может громко засмеяться, Самгин признался: «Я – выпил немножко сверх меры».
Над оркестром судорожно изгибался, размахивая коротенькими руками и фалдами фрака, черненький, большеголовый, лысый дирижер, у рампы отчаянно плясали два царя и тощий кривоногий жрец Калхас, похожий на Победоносцева.
«Оффенбах был действительно остроумен, превратив предисловие к «Илиаде» в комедию. Следовало бы обработать в серию легких комедий все наиболее крупные события истории культуры, чтоб люди перестали относиться к своему прошлому подобострастно – как к его превосходительству...»
Думалось очень легко и бойко, но голова кружилась сильнее, должно быть, потому, что теплый воздух был густо напитан духами. Публика бурно рукоплескала, цари и жрец, оскалив зубы, благодарно кланялись в темноту зала плотному телу толпы, она тяжело шевелилась и рычала:
– Браво, браво!
Это было не весело, не смешно, и Самгин поморщился, вспомнив чей-то стих:
Пучина, где гибнет все то, что живет.
«Откуда это?»
Подумав, он вспомнил: из книги немецкого демократа Иоганна Шерра. Именно этот профессор советовал смотреть на всемирную историю как на комедию, но в то же время соглашался с Гёте в том, что:
Быть человеком – значит быть бойцом.
«Чтобы придать комедии оттенки драмы, да? Пьянею», – сообразил Самгин, потирая лоб ладонью. Очень хотелось придумать что-нибудь оригинальное и улыбнуться себе самому, но мешали артисты на сцене. У рампы стояла плечистая, полнотелая дочь царя Приама, дрыгая обнаженной до бедра ногой; приплясывал удивительно легкий, точно пустой, Калхас; они пели:
Смотрите
На Витте,
На графа из Портсмута,
Чей спорт любимый – смута...
«Это – глупо», – решил Самгин, дважды хлопнув ладонями.
– Браво! – кричали из пучины.
– Пардон, – сказал кто-то, садясь рядом с Климом, и тотчас же подавленно вскричал: – Бог мой – вы? Как я рад!
Это – Брагин, одетый, точно к венцу, – во фраке, в белом галстуке; маленькая головка гладко причесана, прядь волос, опускаясь сверху виска к переносью, искусно – более, чем раньше, – прикрывает шишку на лбу, волосы смазаны чем-то крепко пахучим, лицо сияет радостью. Он правильно назвал встречу неожиданной и в минуту успел рассказать Самгину, что является одним из «сосьетеров» этого предприятия.
– Вы заметили, что мы вводим в старый текст кое-что от современности? Это очень нравится публике. Я тоже начинаю немного сочинять, куплеты Калхаса – мои. – Говорил он стоя, прижимал перчатку к сердцу и почтительно кланялся кому-то в одну из лож. – Вообще – мы стремимся дать публике веселый отдых, но – не отвлекая ее от злобы дня. Вот – высмеиваем Витте и других, это, я думаю, полезнее, чем бомбы, – тихонько сказал он.
– Да, – согласился Самгин, – пусть все... улыбаются! Пусть человек улыбается сам себе.
– Замечательно сказано! – с восхищением прошептал Брагин. – Именно – сам себе!
– Пусть улыбнется! – строго повторил Самгин.
– Я и Думу тоже – куплетами! Вы были в Думе?
– Нет. В Думе – нет...
– Это – митинг и ничего государственного! Вы увидите – ее снова закроют.
– Не надо, – пусть говорят, – сказал Самгин.
– Да, разумеется, – лучше под крышей, чем на улицах! Но – газеты! Они все выносят на улицу.
– А она – умная! Она смеется, – сказал Самгин и остатком неомраченного сознания понял, что он, скандально пьянея, говорит глупости. Откинувшись на спинку стула, он закрыл глаза, сжал зубы и минуту, две слушал грохот барабана, гул контрабаса, веселые вопли скрипок. А когда он поднял веки – Брагина уже не было, пред ним стоял официант, предлагая холодную содовую воду, спрашивая дружеским тоном:
– Капельку нашатырного спиртику не прикажете?
Антракт Самгин просидел в глубине ложи, а когда погасили огонь – тихонько вышел и поехал в гостиницу за вещами. Опьянение прошло, на место его явилась скучная жалость к себе.
«В сущности, случай ничтожный, и все дело в том, что я много выпил», – утешал он себя, но не утешил.
На другой день, вечером, он сердито рассказывал Марине:
– Москва вызвала у меня впечатление пошлости и злобы. Одни торопливо и пошло веселятся, другие – собираются мстить за пережитые тревоги...
– Собираются! – воскликнула Марина. – Уже – начали, вон как Столыпин-то спешит вешать.
Читать дальше