Из-за этих мотетов я утратил последний интерес к музыке. Я придумывал сотни отговорок, чтобы избежать пятничных походов. В конце концов отец тоже признал, что я неизлечим, и перестал брать меня с собой. Вместо меня его сопровождал теперь Эди. Смотри-ка! Эди развился, он стал единственным из нас, кто не без охоты сидел за роялем и порой мог потолковать с отцом о музыке. Отцу всегда хотелось этого, ведь он так много знал о музыке, а мы, остальные, о ней и слышать не хотели. И вот Эди стал ходить с отцом на мотет.
Все мы видели: наш маленький, чуть грубоватый прежде Эди все больше и больше становился любимцем родителей. И что странно — мы ему ничуть не завидовали, мы находили это в порядке вещей. Ибо Эди достиг привилегированного положения не благодаря тому, что вел себя примерно-показательно или же угодничал, а потому лишь, что не притворялся, и к тому же отличался порядочностью и надежностью. Он отнюдь не был образцовым мальчиком и не так уж хорошо учился, но в глупостях, которые он совершал, отсутствовало то роковое и непостижимое, что было присуще моим сумасбродствам. Глядя на Эди, родители знали: он сам выберет свой путь, ему можно спокойно предоставить свободу действий. Когда же они смотрели на меня, то, скорее всего, думали: может, из него что-нибудь и выйдет, только за ним надо как следует присматривать.
Но главное, никто из нас — ни я, ни сестры — ни разу не ощутили хотя бы малейшую зависть к младшему брату, потому что мы видели: Эди совершенно не сознает своего привилегированного положения в сердцах родителей. Он любил нас всех совершенно одинаково, ему в голову не приходило, что можно любить с разбором. И мы любили его, и в наших сердцах, как и в родительских, ему было отведено привилегированное место.
Так отец приобрел себе товарища из молодого поколения. Сестры ушли из дома, я тоже отправился в странствия. Эди остался с родителями, вся жизнь их сосредоточилась на нем. Отец даже не огорчился, когда мой младший брат довольно рано заявил ему, что хочет стать только врачом и ни в коем случае — юристом. Когда это говорил Эди, все было в порядке, потому что он знал, чего хочет, я же каждый день менял свои решения. Так Эди стал надеждой всей семьи. Отец с мамой гордились им...
Потом началась мировая война, и брат, которому едва исполнилось семнадцать, вступил в армию добровольцем. Он пробыл всю войну на западном фронте, безвылазно во фландрской грязи, в окопах. Изредка приезжал в отпуск. Преисполненные гордости родители любили показываться со своим юным офицером, они гордились им и боялись за него — потери в полках на том участке фронта были особенно велики. Но об этом Эди не рассказывал, он вообще ничего не рассказывал о войне. Охотнее всего он говорил о будущем. Во время одной из побывок брат досрочно сдал экзамен на аттестат зрелости, позднее пришло какое-то предписание, разрешавшее зачислить его в студенты. Он сходил в университет и записался на медицинский факультет.
Это был его самый счастливый день за всю войну. Брат повел родителей в ресторан, и, хотя угощали там скудно, настроение у него было такое задорное, радостное, что ему удалось развеселить печальных, постаревших и поседевших от войны родителей. Эди принялся изображать из себя врача, будто он уже стал знаменитостью и отец пришел к нему на консультацию. Брат нес несусветный вздор о желчнокаменной болезни, разрешил отцу снова курить давно запрещенную трубку и пообещал ему девяносто девять лет жизни. Заразившись радостным настроением Эди, родители верили каждому его слову, любой выдумке, они увлеклись настолько, что забыли и про войну в окопах, и про ураганный огонь, и о своем смертельном страхе за сына.
Наступил день отъезда. Я провожал брата. По мере того, как мы приближались к вокзалу, Эди становился все молчаливее. Вот уже и воинский состав для отпускников— грязный, обшарпанный, безобразный,— как и всё в том 1918 году. Брат коротко попрощался со мной, потом молча сидел в купе, не оборачиваясь в мою сторону. Наверно, он подумал, что я уже ушел. Как сейчас вижу его: совсем еще юный, двадцать один год, но пухлые мальчишеские губы уже плотно сжаты, а в уголках рта пролегли горькие складочки разочарования.
Неожиданно он встает, подходит к окну и смотрит на меня в упор, серьезно. Потом говорит:
— Если что случится... со мной... старайся радовать стариков, Ганс. Не забывай об этом!
Поезд трогается. Эди твердо смотрит мне в глаза. Ни уныния, ни трепета. Никто из нашей семьи больше не увидел его. Он был не только любимым братом, он был самым порядочным человеком, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Родители так и не примирились с его потерей...
Читать дальше
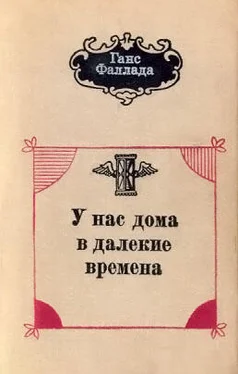







![Диана Джонс - Дом за порогом. Время призраков [litres]](/books/412396/diana-dzhons-dom-za-porogom-vremya-prizrakov-litre-thumb.webp)



