Но лицо, лицо! Как может изменить лицо жизнь — даже самая скромная, смиренная, целиком посвященная любви к ближним! На меня смотрит молодая женщина с волевым лицом. Твердый подбородок, прямая, четкая линия отнюдь не маленького носа. Хотя губы с чуть приподнятыми уголками сжаты, в выражении рта есть что-то доброжелательное, какая-то затаенная улыбка. Лишь глаза смотрят несколько строго... И вот рядом портрет старухи; если бы не знал, никогда бы не поверил, что это одно и то же лицо, только состарившееся. Рот растянулся, губы стали совсем тонкими, подбородок выглядит короче и шире. Крупный нос словно погрузился в складки и морщины, окружившие его со всех сторон; да, жизнь пропахала эту плоть несчетными бороздками. Вот — молча пережитое! Вот — глубоко скрытая скорбь! Годами таившиеся в душе тревоги и заботы теперь выступили наружу! Складки вокруг рта выдают горечь от невысказанных слов. Но глаза — и это самое поразительное,— глаза, которые в молодости смотрели так строго, почти грустно, теперь улыбаются! Они как будто стали меньше от тяжело нависших век и набухших слезных мешочков, но они улыбаются с такой добротой и любовью, словно щедро расточаемый девяносто лет подряд запас любви не убавился, а умножился. В этих глазах светится вечный триумф духа над плотью, любви над тленом. Древнее лицо напоминает скорее огрубевшую, лишаистую кору старых деревьев, чем лицо человека, но глаза сияют, как и в тот первый день, когда в них засветился пробудившийся дух.
Долгая жизнь пролегла между двумя этими лицами, жизнь, которой не очень-то благоволило счастье. Дочь сельского пастора за пастора же выходит замуж. Счастливые годы в деревне, тихая, скромная жизнь — дети, поле, скот, небольшой бедный приход среди пустоши. Может быть, такая жизнь показалась мужу слишком простой и он внял голосу свыше. Пастор решает ехать в Целле, к последним из пропащих. Ему хочется стать духовным пастырем в каторжной тюрьме.
Долговязого, болезненного пастора предостерегают: ведь на его щеках и без того цветут кладбищенские розы, как тогда говорили, но предпочитали не говорить. Он не внемлет предостережениям, семья переезжает в Целле, поселяется при тюрьме. В старой песне есть такие строки:
Воздвигнут в Целле теремок:
Любви — конец. Прощай, дружок!.. [*]
Крепкий дом в Целле не уберег мужа, он умер. Но любви не пришел конец, началось вдовство, продолжавшееся шестьдесят лет. После смерти мужа она оказалась с пятью детьми, а пенсия была такой ничтожной! Предстояло неизбежное и самое тяжкое: расстаться с тремя детьми, их отвезли к обеспеченным родственникам, в том числе мою мать. Вдова осталась одна с сыном и дочерью.
Жизнь кончилась, женская жизнь; недавней спутнице мужчины пришлось отныне учиться быть вдовой, жить впредь только для других, больше не думать о себе. Сколько желаний и надежд пришлось похоронить! Но старое лицо выдает их. Трое детей вдалеке — сколько тоски и тревоги,— и об этом можно прочитать на лице. В доме жалкие гроши, над которыми вечно дрожишь, экономя на самом необходимом,— и об этом говорит старое лицо. Но сердце живо, любовь побеждает, дети выходят в люди. И вот уже есть внуки, а о внуках нестареющее сердце думает иначе, чем о детях!..
Мне всегда казалось бессмысленно жестоким и бесчеловечным, что такому кроткому сердцу не дано было перестать биться среди тишины и покоя. Последние месяцы своей жизни эта смиренная, набожная душа была уверена, что она в аду. Страдала она ужасно, мучилась день и ночь. Когда ей давали холодное питье, она жутким голосом кричала, что ей льют в горло расплавленное железо. Все, кто находился возле нее, стали чертями, бог отверг ее. Она была проклята навеки за свои безмерные грехи. Она никогда больше не встретится со своим мужем и детьми, ей уготован адский огонь. Для всех было избавлением, когда она умерла, на девяносто пятом году жизни. Думаю, что теперь она обрела покой.
Поэтому я решаюсь рассказать несколько историй из жизни бабушки, которые показывают ее со смешной стороны — но смешной только для других. Бабушка эти истории воспринимала очень серьезно; так уж она была устроена, чувство юмора у нее отсутствовало полностью. Она не понимала, что значит шутка.
Если нам хотелось растормошить бабушку, мы упрашивали ее рассказать страшную историю про маленькую Эльфриду. В ту пору, когда случилась эта трагедия, Эльфриде, младшей дочурке бабушки, было два года, а ее брату Готхольду — четыре. Ему, как подрастающему мужчине, вечно занятая мать часто поручала присматривать за сестренкой. Ко всеобщему удовольствию, он, как правило, охотно выполнял это.
Читать дальше
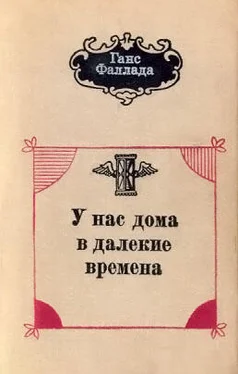







![Диана Джонс - Дом за порогом. Время призраков [litres]](/books/412396/diana-dzhons-dom-za-porogom-vremya-prizrakov-litre-thumb.webp)



