И с этими словами покинул цирюльню — с высоко поднятой головой, гордый, как испанец! Гимназическая фуражка стала мне вдруг просторной и заскользила вниз, пока не нашла естественную опору в виде торчащих ушей. Я направился домой.
Но уже через двадцать шагов вся гордость меня покинула. Мне казалось, что каждый встречный, посмотрев на меня, тут же начинал смеяться. Я жался к стенам домов и проклинал долгий летний день, из-за которого был обречен предстать перед мамой при полном дневном освещении. Я миновал Луипольдштрассе, чтобы не встретиться с детьми наших знакомых. Я бродил по окрестным улицам, сколько мог, пока не приблизилось время ужина и волей-неволей пришлось отправляться домой; по нашей улице я промчался, опустив голову и ни с кем не заговаривая. Дома по «черному» коридору незаметно прокрался к себе в комнату и сел, ожидая неминуемого разоблачения, даже читать не хотелось!
Потом пришла мама и позвала меня ужинать. Я почувствовал, что выражение «не верить своим глазам», неосознанно употребляемое в речи, только теперь обрело для меня смысл. Мама уставилась на меня таким недоверчивым взглядом, будто я — это не я, а какой-то неизвестный, страшно искаженный двойник, фантом, кошмарное видение, призрак... надо только три раза перекрестить его, и он исчезнет в столбе дыма, а на его месте снова появится милый златокудрый мальчик...
Но сколько мама ни терла глаза, никакого златокудрого мальчика не появилось. Призрак остался. Тут она поняла, что́ произошло, и расплакалась:
— Мальчик мой, что же ты опять натворил! Где твои дивные волосы! Ну на кого ты стал похож?! Что у тебя за уши?! Ты похож на горшок с двумя ручками! Хотя бы постригся на пробор! Ведь я уже отца подготовила, что твоим локонам недолго осталось жить. И ты наносишь ему такой удар? Ну как ты на это решился? И не спросив нас!
Мама продолжала причитать, но я почти не слушал. Меня совершенно сбило с толку ее признание, что это не она, а отец хотел, чтобы я носил локоны. Значит, мама беспрекословно взяла на себя все хлопоты, связанные с локонами, терпела все мои жалобы и ни разу не выдала, что не она, а отец был зачинщиком.
Внезапно мне стало невыразимо жалко маму. Я прильнул к ней и сказал со слезами на глазах:
— Мам, я в самом деле не хотел. Это все случайно получилось, парикмахер очень торопился! — Гордость не позволяла мне признаться, что меня спрашивали насчет стрижки и что я дал себя обмануть.— Они же скоро отрастут, мам, ты ведь знаешь, волосы у меня растут ужасно быстро. И пусть остаются локоны, я больше не буду ругаться из-за них...
Но мама лишь грустно покачала головой:
— Ах, Ганс,— сказала она.— Вот ты всегда так: каяться готов сразу... но лучше бы ты хоть немножечко думал, прежде чем что-то сделать! А с твоими локонами покончено, навсегда! — Она вытерла глаза.— Теперь уж ничем не поможешь. Что случилось, то случилось. Пойдем к отцу, мальчик, пойдем быстрее, скажем ему об этом до ужина, пока других еще нет...
Она взяла меня за руку и повела за собой. Вот так мама поступала всегда. С детьми у нее не было никаких секретов от мужа; если мы просили у нее хотя бы гривенник, она сначала спрашивала отца. Но она всегда была готова заступиться за нас и помирить с отцом; приняв основную долю отцовского гнева на свою неповинную голову, она выдерживала первую вспышку, а уже потом, с глазу на глаз, объяснялась с отцом, защищая детей.
Должен сказать, однако, что в этом частном случае мой добрейший, кроткий отец меня разочаровал. Мне казалось, гнев его по поводу «кражи» локонов нисколько не соразмерен с тяжестью моего проступка. Отец утверждал, что у меня позорный вид, вид каторжника! Только у каторжников такие наголо остриженные головы!! Со мной стыдно показаться на улице!!! Меня надо прятать от родственников и знакомых! Что же касается нашей поездки, то он отказывается ехать со мной в одном купе! Пусть мама поступает, как ей угодно, но он, он не сядет на одну скамью с каторжником!!
Все это было настолько непривычно и неожиданно, что повергло меня в смятение. Позднее мне доводилось совершать куда большие глупости и даже низкие поступки, однако отец, поостыв после первого замешательства и раздражения, всегда становился прежним, терпеливым, готовым подать руку помощи. Но сейчас он был просто неузнаваем: когда я довольно неуклюже попытался оправдаться, сославшись на дешевизну этого фасона стрижки, и протянул отцу два сэкономленных гривенника, он с яростью выбил их у меня из руки. Отец, который вовсе не был злопамятным, еще долгое время обзывал меня «каторжником», когда в нем вдруг с новой силой вспыхивал гнев.
Читать дальше
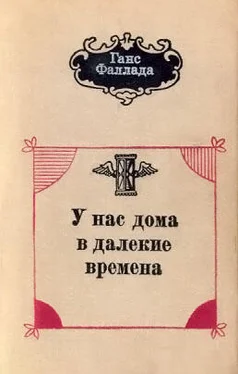







![Диана Джонс - Дом за порогом. Время призраков [litres]](/books/412396/diana-dzhons-dom-za-porogom-vremya-prizrakov-litre-thumb.webp)



