Но вот наступил для нас день, когда чары универмага поблекли. Мы растерянно бродили по его этажам и недоумевали, почему то, что еще вчера казалось нам таким увлекательным, сегодня вдруг разонравилось. Мы посетили наши любимые «аттракционы»: никакого впечатления. Они показались нам просто скучными. У сказочных постелей появилось теперь поразительнейшее сходство с нашими домашними постелями, в которых мы спали каждую ночь без особого восторга. Сыр вонял, а карпы пробуждали воспоминание о «карпе по-польски», которого подавали на Новый год и который нам не очень-то нравился.
Открытие это было не из приятных, но еще неприятнее была проблема, которую предстояло решить: чем мы теперь займемся в свободное время? Мы так привыкли к праздношатанию, что одна мысль — торчать целые дни дома за книгами — ужасала нас. Нам не сиделось на месте.
Наконец Ганса Фётша осенила идея, которая пришлась мне по вкусу:
— Давай пойдем прямо под липами к дворцу, я там давно не был. Посмотрим, дома ли ЕВ.
Мы покинули универмаг через выход на Фоссштрассе, и по Вильгельмштрассе, мимо мрачного министерства юстиции вышли к Унтер-ден-Линден. Был пасмурный, но сухой ноябрьский день. Влажная опавшая листва на аллее под могучими липами прилипала к подошвам. Витрины роскошных магазинов нас не привлекали, мы были сыты роскошью.
Но когда мы приблизились к пассажу, Ганс Фётш предложил хотя бы взглянуть на вход в паноптикум Кастана. Эта выставка восковых фигур пользовалась в то время у берлинцев большим успехом. Фётш уже не раз побывал здесь, а мне еще никак не удавалось из-за отсутствия денег и строгого отцовского запрета. Дородный, в золотых галунах швейцар произвел на меня сильнейшее впечатление; когда же я протиснулся сквозь толпу зевак к витрине, то совершенно обомлел от восторга.
Впереди, на фоне панорамы бранденбургского ландшафта с соснами и даже краешком лазурного озера, стоял стройный господин в черном сюртуке, брюках в серую полоску и с цилиндром на голове. Несколько высокомерное выражение его лица оживляли алые щечки, в глазной впадине сверкал монокль, а кудрявая светлокаштановая борода была столь безупречна, словно ее только что завил придворный парикмахер кайзера герр Габи.
В руке этот господин держал револьвер, а взгляд его глуповатых кукольных глаз был направлен на распростертого у его ног господина в аналогичной одежде и белой рубашке, на которой проступало коричневато-красное пятно. Убитый, с правдоподобным до жути угасающим взором, являл собою тип бледного брюнета. Даже ребенку сразу было понятно, что это негодяй, а краснощекий блондин — герой, справедливо покаравший злодея. Внизу была надпись: «Месть за оскорбленную честь», и здесь наверняка изображалась сцена из нередких в то время дуэлей, где обманутый супруг мстил за оскорбленную честь,— правда, не столько свою, сколько своей жены.
Как уже сказано, эта сцена необычайно поразила мое воображение; несмотря на маскообразность застывшей группы, я воспринимал ее как живую. Гротесковость изображения, хотя бы то, что убитый упирался ногами в ботинки своего противника (причина тут, конечно, в узком пространстве витрины), нисколько мне не мешала. Я очень долго стоял перед группой, рассматривая каждую деталь: валявшийся на «земле» револьвер убитого, пучок запыленного вереска, лежавший возле бледной щеки трупа, желтоватую восковую руку с длинными синеватыми восковыми ногтями.
Потом моя фантазия заработала, и я представил себе, что станет делать оставшийся в живых кукольный герой. Меня очень интересовало, что́ он сделает со своим револьвером. Бросит его здесь, рядом с другим револьвером, или понесет, прямо в руке, домой? И доберется ли он вообще до дома? Если он живет в Груневальде, а это под самым Берлином, то все равно на нем слишком заметная одежда, прохожие обратят внимание, даже если ему удастся спрятать оружие в фалды сюртука.
Я пристально вглядывался в детали панорамы, однако не обнаруживал ни малейшего намека на секундантов, на ожидающую карету. Но... захочет ли он вообще убежать? Может, он и не думает скрываться? Я слышал от отца, что такого рода убийство почти разрешено. За него «всего-навсего» сажают в крепость, а крепость не считалась бесчестьем. Я подумал, как бы я поступил на месте «кудрявого», но ничего не приходило в голову... Лучше всего, конечно, удрать, да побыстрее, в Гамбург и стать юнгой, но с моноклем и бородой вряд ли возьмут в юнги...
Я бы долго простоял у восковых фигур, но Ганс Фётш толкнул меня, и мы пошли дальше, в сторону дворца. По дороге мой приятель рассказал кое-что о паноптикуме. Там есть, оказывается, такие «дурацкие» штуки, как Белоснежка и семь гномов,— у нее длинные распущенные волосы со всякими стекляшками и побрякушками, а на платье розовые бантики; потом есть «комната ужасов» (за добавочную плату в десять пфеннигов) и анатомический музей (еще двадцать пять пфеннигов), где в точности видно, как по-разному устроены мужчины и женщины. Данное обстоятельство Ганс Фётш подчеркивал с некоторой настойчивостью, однако не встретил поддержки с моей стороны. Это меня (еще!) не интересовало. Тем не менее я решил, что в ближайшие же дни начну экономить, а потом все сразу истрачу на паноптикум Кастана.
Читать дальше
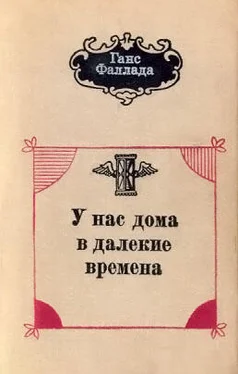







![Диана Джонс - Дом за порогом. Время призраков [litres]](/books/412396/diana-dzhons-dom-za-porogom-vremya-prizrakov-litre-thumb.webp)



