После обстоятельного консилиума эти сухари, размоченные в молоке, решили давать маме вместо ужина, что опять же было признано чрезвычайно полезным для здоровья, но симпатии у мамы к булочкам не вызвало. Каждый вечер она в слезах сидела перед голубой мисочкой, в которой были размочены сухари, давилась и глотала, не смея встать, пока не съест всё.
Лишь одна мысль утешала маму: когда-то булочки должны кончиться. Но это было, конечно, ошибкой,— ведь утренняя-то булочка оставалась постоянно... Вечерние «упражнения» не пробудили у мамы аппетита к этой пище, она не хотела их есть ни в сухом, ни в размоченном виде, и продолжала носить булочки обратно домой. Поскольку платяной шкаф больше не годился, она подыскала новый, более надежный тайник: пустовавший ящик комода в гостиной.
Но в один прекрасный день ящик этот понадобился, склад булочек был обнаружен, и возмущению столь упорным непослушанием не было предела! Нескончаемая череда голубых мисочек ожидала маму, вечерние трапезы вызывали только отчаяние, а отвращение к утренним булочкам было непреодолимо. Собственными силами мама никогда бы не выбралась из этого мучительного положения, ее слишком уж запугали. Но здесь пора сказать, что в дядюшкином доме обитало одно старое угрюмое существо, почти бессловесное, которое с незапамятных времен убирало комнаты, кухарничало, с невозмутимым деревянным лицом выслушивало все капризы дяди и вообще, кажется, было еще более суровым изданием нашей старой Минны.
Однажды даже этой очерствевшей старой деве стало жалко смотреть на маму, она открыла наконец рот и сказала:
— Слышь-ка, Ловизочка, слышь! Когда ты в школу идешь, тебе ж надо через речку переходить... И ежели ты чего есть не можешь, то глянь через перила, глянь... В Хельде — оно верней будет, чем на платяном шкафе али в комоде.
И хотя это прорицание звучало несколько туманно (как, впрочем, подобает делать всем хорошим оракулам), тем не менее мама поняла совет, и отныне черствых утренних булочек больше не существовало. А когда позднее, как сообщалось выше, потребовалось избавиться от скакалки с «не теми» ручками, место для погребения уже было известно.
Мама вспоминает, что за все ее детские годы деньги, притом солидная сумма в пять пфеннигов, были у нее еще только один раз; наверное, они появились после каникулярной поездки в «свекольный бурт». С утра до вечера ее занимала мысль, куда вложить этот капитал; то, что от него надо быстрее избавиться, было ясно. Если бы у нее обнаружили деньги, последовала бы не только расправа над ней, но и строгое письмо матушке, а этого ни в коем случае нельзя было допускать!
После долгих колебаний мама решилась на пирожное-трубочку со взбитыми сливками, которую в те добрые времена еще можно было приобрести за пять пфеннигов. Едва решение было принято, как маме нестерпимо захотелось пирожного. Она мигом слетала к кондитеру, купила трубочку, вернулась в сад, спряталась за кустами крыжовника и съела пирожное.
Понравилось ли оно ей, мама уже не помнит, но зато очень хорошо помнит, как несколько недель подряд она пребывала в постоянном страхе, что ее бесчестный поступок станет известен. Она поступила очень необдуманно, купив пирожное в «фамильной» кондитерской, и теперь, когда, гуляя с дядей и тетей, они проходили мимо этой лавки, а ее хозяин почтительно здоровался и порой обменивался двумя-тремя словами со всемогущим советником юстиции, то она всякий раз ждала, что с уст кондитера слетит вопрос:
— Ну как, Ловизочка, понравилось тебе мое пирожное?
Эти прогулки с дядей и тетей были каким-то кошмаром. Обычно дядя шел впереди; будучи небольшого роста и довольно полной комплекции, он шагал не спеша. На лацкане сюртука он всегда носил защипку, которой закреплял на груди свою панаму, как только оставались позади последние городские дома. У дяди была львиная голова — сильно потевшая! — с могучей седой гривой. Зычным голосом он заговаривал чуть ли не с каждым встречным и что-нибудь изрекал — чаще всего не очень приятное.
За дядей следовали обе его дамочки. Когда процессия приближалась к небольшой местной купальне, дядя, страдавший близорукостью, спрашивал, не обращая внимания на посторонних:
— Луиза, кто купается — мужички или бабенки?
— Мужчины, дядя Пфайфер! — отвечала мама.
— Тогда смотреть нале-во! — командовал дядя и тщательно следил, чтобы его приказ выполнялся.
Иногда дядю одолевало желание понаблюдать, «прилично» ли ходят его спутницы, и он пристраивался в арьергарде. При этом всякий раз доставалось и тете — то она слишком пылит, то у нее плохо расправлена шаль,— но главным образом нотации читались маме:
Читать дальше
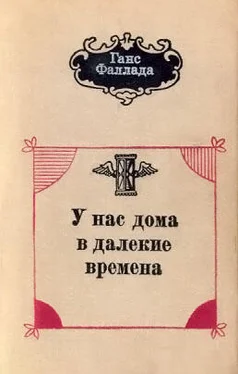







![Диана Джонс - Дом за порогом. Время призраков [litres]](/books/412396/diana-dzhons-dom-za-porogom-vremya-prizrakov-litre-thumb.webp)



