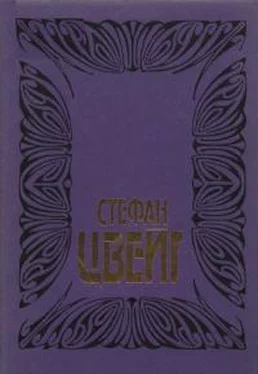Восемнадцать ночей вкушал Вирата божественную тайну глубокого созерцания, отрешенный от собственной воли и свободный от жажды жизни. Блаженством казалось ему то, что он совершал как искупление, и уже ощущал он в себе вину и неумолимость судьбы лишь как смутные сновидения, под вечным бдением знания. В девятнадцатую же ночь он внезапно пробудился от сна: земная мысль коснулась его. Раскаленной иглой впилась она в его мозг. Ужас потрясал его тело, и дрожали пальцы его рук, как листья на ветке. Что, если пленник нарушит клятву и забудет его, и он должен будет остаться здесь на много тысяч дней, пока мясо не спадет с его костей и язык не окоченеет в молчании? Воля к жизни еще раз пантерой взметнулась в его теле и разорвала оболочку покоя: время вошло в его душу, и с ним страх, и надежда, и все смятение человека. Он не мог больше размышлять о тысячеликом Боге вечной жизни, а лишь о себе; глаза его жаждали света, ноги его, тершиеся о твердый камень, требовали простора, жаждали прыжка и бега. Он не мог не думать о жене и сыновьях, о доме и добре, о жарких искушениях мира, которые мы впитываем нашими чувствами и ощущаем нашей горячей кровью.
С этого дня время, доселе безмолвно, как черное зеркальное озеро, лежавшее у его ног, хлынуло в его сознание. Мощным потоком катилось оно мимо него. Он хотел бы, чтобы оно подхватило его и унесло с собой, к далекому часу освобождения. Но время было против него: задыхаясь, словно измученный пловец, вырывал он у него один час за другим. Он не мог больше оставаться на своем ложе. Мысль, что тот может забыть его и ему придется сгнить здесь, в этом подземелье молчания, заставляла его метаться по тесной келье. Тишина душила его. В крике он изливал камням свой гнев и жалобы, проклинал себя, и богов, и царя. Окровавленными ногтями царапал он издевавшиеся над ним скалы и бился головой о дверь, пока не падал без чувств на пол, чтобы, очнувшись, снова вскочить и, подобно бешеной крысе, метаться по келье.
За эти дни, от восемнадцатого дня поры отрешенности и до нового месяца, Вирата прошел миры отчаяния. Ему были противны еда и питье, ибо страх наполнил его тело. Ни одной мысли не мог он удержать в сознании, только губы его считали падавшие капли, чтобы дробить время, бесконечное время, на отдельные дни. И, неведомо для него, голова его поседела над стучащими висками.
На тридцатый же день раздался шум перед дверью и опять уступил место тишине. Потом прозвучали шаги, распахнулась дверь, ворвался свет, и перед погребенным во мраке предстал царь. С любовью обнял он Вирату, говоря:
— Я узнал о твоем поступке, более прекрасном, чем все когда-либо запечатленные в писаниях отцов. Как звезда заблестит он высоко над низиной нашей жизни. Выйди же, дабы свет божий озарил тебя и чтобы счастливый народ мог узреть справедливого судью!
Вирата прикрыл рукою глаза, ибо свет причинял ему боль. Как пьяный, встал он, шатаясь, и слуги должны были поддержать его. Но прежде чем выйти из ворот, он сказал:
— О царь, ты назвал меня справедливым судьей, я же знаю теперь, что всякий, творящий суд, совершает несправедливость и обременяет себя виною. Еще остались в этих глубоких подземельях люди, страдающие по моему слову, и лишь теперь понял я их страдания и знаю: ничем не смеем мы ни за что воздавать. Отпусти и тех, о царь, и отстрани народ с моего пути, ибо я стыжусь их восхвалений.
Царь подал знак, и люди оттеснили народ. Снова наступила тишина вокруг них. И сказал царь:
— На верхней ступени дворца моего сидел ты, чтобы творить суд. Ныне же, когда через познание человеческого страдания ты стал более мудрым, чем какой-либо судья, живший на земле, ты должен воссесть рядом со мной, дабы я прислушивался к твоему слову и сам стал мудрым.
Но Вирата обнял его колени, в знак просьбы.
— Освободи меня от моих обязанностей! Я не могу больше судить людей, с тех пор как я знаю, что никто не может быть судьей другого. Кара принадлежит Богу, а не людям, ибо кто вмешивается в ход судеб, тот впадает в вину. Я же хочу прожить мою жизнь без вины.
— Так будь же не судьей, а моим советником, — ответил царь, — и давай мне справедливые советы о войне и мире, налогах и оброках, дабы я не заблуждался в моих решениях.
И еще раз обнял Вирата колени царя.
— Не облекай меня властью, царь, ибо власть побуждает к действиям, а какой поступок справедлив и не вмешивается в ход судеб? Если я посоветую войну, я тем самым посею смерть, и каждое сказанное мною слово вырастает в деяние, а каждое деяние таит в себе смысл, которого я не знаю. Справедливым может быть лишь тот, кто не касается ничьей судьбы и ничьих дел, кто жйвет одиноким. Никогда я не был ближе к познанию истины, чем тогда, когда я был одинок, лишенный человеческого слова, и никогда я не был свободнее от вины. Дозволь же мне мирно жить в моем доме, без всяких других обязанностей, кроме жертвоприношений богам, дабы я остался чистым от всякой вины.
Читать дальше