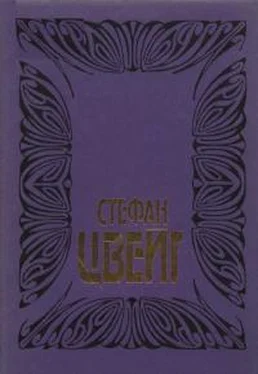Ах, если б я не ходил в ваши школы!
Гиперион
Главное побуждение, толкнувшее Гёльдерлина к свободе, — это влечение к героическому, стремление найти в жизни «великое». Но прежде чем он решается искать его в собственной душе, он хочет увидеть «великих» поэтов, священный сонм. Не случайность приводит его в Веймар: там Гёте, и Шиллер, и Фихте, и рядом с ними, как сияющие трабанты вокруг солнца, Виланд, Гердер, Жан-Поль, братья Шлегель — все созвездие немецкого духа. Дышать этой возвышенной атмосферой жаждет его враждебная всему непоэтическому грудь: здесь, словно нектар, будет он пить воздух античности и в этой экклесии 10 10 Экклесия — народное собрание в республиках Древней Греции. — При-меч. пер.
духа, в этом колизее творческой борьбы испытает свою силу.
Но он должен еще подготовиться к такой борьбе, ибо молодой Гёльдерлин чувствует себя в духовном, в умственном отношении, чувствует себя в смысле образования ущербным рядом с объемлющим весь мир духом Гёте, рядом с «колоссальным», опытным в мощных абстракциях умом Шиллера. И он решает, — вечное заблуждение немцев! — что ему нужно систематическое «образование», что он должен «записаться» на лекции по философии. Точно так же, как Клейст, он насилует свою насквозь спонтанную экзальтированную натуру, пытаясь метафизикой осветить небеса, которые он ощущает в блаженные минуты, доктринами подкрепить свои поэтические замыслы.
Я опасаюсь, что никогда еще не было сказано с надлежащей откровенностью, как пагубны были не только для Гёльдерлина, но и для всей немецкой поэзии встречи с Кантом и занятия метафизикой. И пусть традиционная история лите-
ратуры продолжает считать великим завоеванием неосмотрительность немецких поэтов, поспешивших присоединить к своим поэтическим способностям метафизику Канта, — непредубежденный взор должен наконец увидеть роковые последствия этого вторжения догматического умствования в область поэзии. Кант — я высказываю свое личное убеждение — бесконечно снизил чистое творчество классической эпохи, подавил его конструктивным мастерством своего мышления и, толкнув художников на путь эстетического критицизма, нанес неизмеримый ущерб чувственности, радостному приятию мира, свободному полету воображения. Он надолго подавлял чистую поэзию во всяком поэте, подчинившемся его влиянию, — и как мог бы этот мозг в человеческом образе, этот воплощенный рассудок, этот гигантский глетчер мысли оплодотворить фауну и флору воображения? как мог бы этот самый безжизненный человек, обезличивший себя в автомат мысли, человек, никогда не прикасавшийся к женщине, ни разу не переступивший за черту своего провинциального города, человек, в продолжение пятидесяти, нет — семидесяти лет ежедневно в один и тот же час автоматически пускавший в ход тщательно пригнанные колеса и зубцы своей мыслительной машины, — как мог бы, спрашивается, противоположный полюс непосредственности, лишенный всякой спонтанности, в застывшую систему превратившийся ум (гениальность которого заключается именно в этой фанатической конструктивности) когда-либо оплодотворить поэта, насквозь чувственное существо, черпающее вдохновение в святых причудах случая, непреходящей страстью гонимое к неизвестности? Влияние Канта отвлекает классиков от их великой, первобытной страстности, напоенной мощью Ренессанса, и незаметно толкает их к новому гуманизму, к ученой поэзии. И разве это не обескровление немецкой поэзии, когда Шиллер, создатель самых-ярких немецких образов, всерьез занимается умственной игрой, стараясь рассечь поэзию на категории, на наивную и сентиментальную, или когда Гёте рассуждает с братьями Шлегель о классицизме и романтизме? Незаметно поэты впадают в прозу, прикасаясь к рассудочной проницательности философа, созерцая холодный рационалистический свет, исходящий от этого систематического, кристаллически закономерного ума: в ту пору, когда Гёльдерлин приезжает в Веймар, Шиллер уже утратил пьянящую мощь своих ранних демонических вдохновений, и Гёте (здоровая натура которого с враждебностью первобытного инстинкта решительно сопротивлялась всякой систематической метафизике) сосредоточил свое внимание преимущественно на науке. О том, в каких рационалистических сферах вращались их мысли, свидетельствует их переписка, величественный документ законченного мировоззрения, но все же скорее переписка двух философов или эстетиков, чем поэтическая исповедь: в ту пору, когда Гёльдерлин присоединяется к диоскурам, поэзия под магнетическим влиянием Канта перемещается из центра к периферии их существа. Настала эпоха классического гуманизма, но (роковая противоположность Италии) самые мощные поэты эпохи не бегут, подобно Данте, Петрарке и Бок-каччо, из холодного мира науки в поэтическую сферу: Гёте и Шиллер на (невозвратимые!) годы уходят из божественного мира образов в более холодный мир эстетики и науки.
Читать дальше