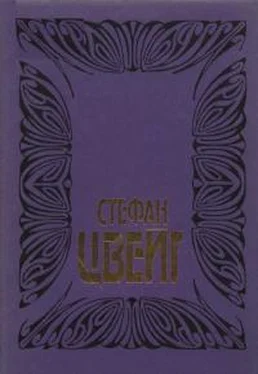Может только на миг познать полноту человек.
Грезой о ней он живет с той поры.
Бурное странствие в колеснице Феба неизбежно приводит — гибель Фаэтона! — к падению в бездну.
Ибо вряд ли
Нетерпеливые молитвы
Наши любят боги.
И теперь гений, ясный и благотворный, показывает Гёльдерлину другой свой облик — темный мрак демона. Гёльдерлин всегда возвращается из поэзии в жизнь разбитым; подобно Фаэтону, он падает не на родимую землю, а гораздо глубже, в безбрежное море меланхолии. Гёте, Шиллер, все они возвращаются из поэзии словно из путешествия, из другой страны, иногда утомленные, но все же с бодрым духом; Гёльдерлин падает из творческого полета словно из облаков, и разбитый, израненный, таинственным изгнанником пробуждается в действительном мире. И это пробуждение от энтузиазма равносильно умиранию души; упав с небес, он с удвоенной чувствительностью ощущает обиды реальной жизни, тусклой и грубой: «Боги умирают, когда умирает вдохновение. Умер Пан, когда умирает Психея». Действительная жизнь не стоит переживания, вне экстаза все бездушно и мертво.
Здесь — как бы в контрапунктическом противопоставлении беспримерной силе экзальтации, свойственной организму Гёльдерлина, — коренится совершенно своеобразная тоска поэта, которую, в сущности, нельзя назвать меланхолией или патологическим помрачением ума. Так же и она проистекает и питается, как и его экстаз, только «из себя»; и она не зависит от притока переживаний (не следует переоценивать эпизод с Диотимой!). Его тоска не что иное, как состояние реакции после экстаза, и неизбежно оно должно быть бесплодно: если в мгновения подъема он чувствует близость беспредельности, то в бесплодном состоянии он сознает свою бесконечную отчужденность от жизни. И, мне кажется, так можно определить его тоску: чувство безмерной отчужденности, тоска изгнанного ангела, детски жалобная тоска по незримой небесной родине. Никогда Гёльдерлин не пытается распространить свою тоску за пределы своего «я», как это делали Леопарди, Шопенгауэр и Байрон, обратив ее в мировой пессимизм («к миру вражда враждебна мне»); никогда не решается он в своем благоговении отвергнуть как бессмысленную какую-нибудь часть святой вселенной: только себя он чувствует чуждым реальной, практической жизни. У него нет другого понятного людям языка, кроме песни: простой, разговорной речью он не может выразить свое существо. Поэтому творчество для Гёльдерлина — абсолютная проблема существования, поэзия — единственный «отрадный приют» для изгнанника неба и земли; никогда поэт не произносил искреннее «Veni creator spiritus» 8 8 Я пришел, творческий дух (лат.).
, ибо Гёльдерлин знает, что творчество никогда не дается ему изнутри, из желания; только сверху, как парение ангелов, может осенить его гений. Вне экстаза он слепо блуждает по обезбоженному миру. «Пан умер для него, когда умирает Психея», жизнь — серая груда шлака, без проблесков пламени «цветущего духа». Но его печаль бессильна против мира, его тоска лишена музыки: поэт утренней зари, он умолкает в сумерках. И так он постепенно спускается по темному течению, нетленный труп своего «я», поэт до последнего часа своей жизни, но бессильный высказать себя, Гёльдерлин с надломленными крыльями: Скарданелли, трагический призрак.
Тот, кто знал его ближе всех и часто видел его в дни помрачения рассудка, Вайблингер, назвал его в одном из своих романов Фаэтоном. Фаэтон — так назвали греки прекрасного юношу, на огненной колеснице песни вознесшегося в небесную обитель богов. Они позволяют ему приблизиться, лучом света звенит его звучный полет по небу, — потом они безжалостно сбрасывают его во мрак. Боги наказывают того, кто осмеливается приблизиться к ним: они разбивают его тело, ослепляют его взор и бросают смельчака в пропасть судьбы. Но они в то же время и любят отважных, пламенно стремящихся им навстречу, и, по воле богов, их имена сияют в назидание смертным чистыми образами среди вечных звезд.
Порой, как благородное зерно,
Спит сердце смертного в скорлупке тесной.
Пока наступит срок.
Словно во вражескую страну вступает Гёльдерлин из школы в жизнь, с первого мгновенья проникнутый сознанием борьбы, предстоящей его чересчур хрупкому духу. Еще в тряской почтовой карете — это достаточно символично! — пишет он гимн «Судьбе», посвященный «матери всех героев, необходимости». В час вступления в мир магическое предчувствие уже вооружает его для гибели.
Читать дальше