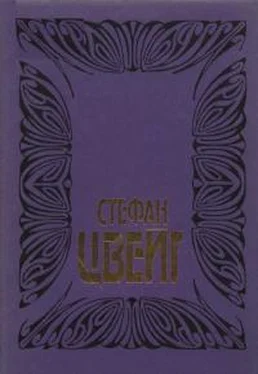бедой. Я не хочу ненавидеть. Я хочу быть справедливым даже к своим врагам. В пылу страстности я хочу сохранить ясность взгляда, чтобы все понять и все любить».
И скоро Жан-Кристоф узнает своего брата по духу: он чувствует, что этот героизм мысли не уступает героизму подвига, что идеалистический анархизм Оливье не менее смел, чем его стихийный мятеж. Ничто не сможет сломить Оливье, ничто не смутит его ясный ум. Никогда большинство не станет для него аргументом: «Он обладал самостоятельностью суждения, которую ничто не могло поколебать. Если он что-нибудь любил, то любил вопреки всему миру». Справедливость — единственный полюс, к которому постоянно клонится игла его воли, единственный фанатизм этой ясной души. Как его более слабый предшественник Аэрт, он обладает «faim de justice», жаждой справедливости, и всякая несправедливость, даже давно минувшего времени, гнетет его как нарушение мирового порядка. Поэтому он не становится ни на чью сторону, он вечный ходатай за всех несчастных и угнетенных, «всегда среди потерпевших поражение», он стремится не к социальной помощи массам, а лишь к помощи единичным душам, в то время как Жан-Кристоф хотел бы завоевать рай искусства и свободы для всего человечества. Но Оливье знает, что есть только одна свобода: внутренняя, которую можно завоевать для самого себя и только для самого себя. Безумие масс, их вечные национальные распри из-за власти печалят его, но они ему чужды; в то время как даже Жан-Кристоф собирается уехать и воевать, когда грозит вспыхнуть война между Францией и Германией, когда все колеблются и теряют свои убеждения, он единственный останется непоколебимым. «Я люблю свое отечество, — говорит он брату из другой страны, — я люблю его, как ты свое. Но могу ли я из-за него убить свою душу, предать свою совесть? Это бы значило предать свое отечество. Я принадлежу к армии духа, а не к армии насилия». Но грубое насилие мстит бессильному, оно уничтожает его глупо и грубо в банальной случайности. Только его идея, его настоящая жизнь переживает его, передав всему грядущему поколению его стойкую преданность идее.
В качестве чудесного борца за справедливость бессильный отвечает здесь насильнику, гений духа — гению дела. Глубоко солидарные в любви к искусству, в страсти к свободе, в потребности нравственной чистоты, оба героя одновременно «благоговейные и свободные» братья в ином смысле, братья в той бесконечной сфере, которую Роллан прекрасно определяет как «музыку души»: в доброте. Разница лишь в том, что доброта Кристофа инстинктивна, следовательно, более стихийна и чередуется со страстными порывами ненависти, сознательная доброта Оливье мудра и подчас отсвечивает ироническим скепсисом. Но именно благодаря этой двойственности, этой взаимно дополняющей форме основного чистого стремления, они испытывают могучее влечение друг к другу: верующий здоровый дух Кристофа обучает одинокого Оливье радостям жизни, Кристоф, со своей стороны, учится у Оливье справедливости. Мудрый возвышается сильным, сильный очищается ясностью — это взаимное благодеяние должно послужить символом для обоих народов, стимулом возвышения духовной дружбы двух людей в духовный союз братских наций, соединения «обоих крыльев Западной Европы», чтобы европейский дух мог свободно воспарить над кровавым прошлым.
ГРАЦИЯ
Жан-Кристоф — творческая сила, Оливье — творческая мысль; лишь третья форма замыкает круг существования — Грация, творческое бытие, которое должно всего лишь сохранять красоту и ясность, чтобы быть самим собой. Как прежде, так и в данном случае имя объясняет символически все: с силой мужчины, Жаном-Кристофом Крафтом, встречается при свете вечерней зари Грация, спокойная красота женщины, и помогает нетерпеливому найти созвучие последней гармонии.
До сих пор Жан-Кристоф встречал лишь два рода людей: соратников и врагов на своем широком пути к миру. В Грации он встречает человека не напряженного, не раздраженного, не взволнованного, человека прозрачной гармонии, которую он бессознательно ищет годами в своей музыке. Грация — не пламенный человек, способный зажечь его, огонь внутренней чувственности давно утих в ней благодаря легкой усталости от жизни и сладкой лени, но и в ней звучит «музыка души», великая доброта, которая его братски сближает с людьми. Она не дает ему нестись вперед, — он уже и так далеко унесся, в его висках пробивается седина, — она предлагает ему лишь покой, «улыбку латинского неба», в котором его бурная тревога тихо тает, как плывущие на западном небе облака. Необузданная нежность, приводившая его в судорожный трепет, потребность в любви, стихийно вспыхнувшая в «Неопалимой купине» и грозившая самому его существованию, здесь просветляется в «сверхчувственном браке» с Грацией, «бессмертной возлюбленной», какое-то сияние эллинского мира рассеивает туман его немецкого существа. От Оливье Жан-Кристоф заимствует ясность, от Грации — мягкость: Оливье примирил его с миром, Грация с самим собой. Оливье был Вергилием, сопровождавшим его по земным чистилищам, Грация становится Беатриче, указывающей на небо великой гармонии: никогда европейское трезвучие не было представлено в более благородных символах — слепая немецкая необузданность, французская ясность, нежная красота итальянского духа. В этом трезвучии растворяется его жизненная мелодия. Жан-Кристоф теперь гражданин всего мира, освоившийся со всеми ощущениями, странами и языками, он может войти в последнее единство всего живого: в смерть.
Читать дальше