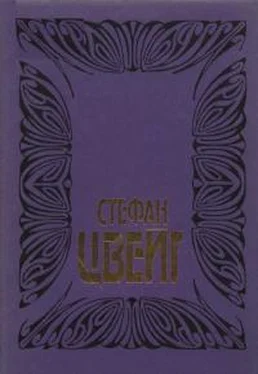Но борьба означает насилие. И Жан-Кристоф, несмотря на врожденную доброту, — насильник. Есть в нем что-то варварское, стихийное, что-то от силы бури или водопада, который не по собственной воле, а послушный законам природы ниспадает в низины жизни. Даже во внешности выражается боевая сила его натуры: Жан-Кристоф высок, силен, почти неуклюж, у него тяжелые мускулистые руки и густая красная кровь, быстро возбуждаемая порывами страсти и вызывающая бурные вспышки. В его тяжелой, неуклюжей, но неутомимой походке чувствуется тяжелая сила предков-крестьян, и эта стихийная сила дает ему уверенность в дни самых тяжелых кризисов его жизни: «Благо тому, кого в жизненных невзгодах поддерживает сильная раса, ноги отцов и дедов несут вперед усталого сына, и силы могучих предков поднимают надломленную душу». Такая физическая сила помогает сопротивляться тяжелой эпохе, но, кроме того, она дает и веру в будущее, здоровый, непреклонный оптимизм, непоколебимое сознание победы. «Передо мною еще столетия, — ликует он однажды в час разочарования, — да здравствует жизнь, да здравствует радость!» Эта зигфридовская вера в успех досталась ему в удел от германской расы, поэтому она насильственно вызывает на борьбу. Он знает: «Le g£nie veut l’obstacle, l’obstacle fait le glnie» — «Гений ищет препятствий, препятствия создают гения».
Но насилие всегда самовольно. Молодой Жан-Кристоф, пока его сила еще не очищена духовно, еще не укрощена нравственно, видит лишь себя одного. Он несправедлив к другим, глух и слеп к каждому протесту, равнодушен к успеху или неуспеху. Как дровосек, бежит он по лесу, размахивает топором направо и налево, лишь бы расчистить место для себя. Он ругает немецкое искусство, не понимая его, он презирает французское, не зная его; он обладает удивительной дерзостью сильной юности, утверждающей, подобно бакалавру: «Мира не было, пока я его не создал». Его сила находит выход в драках, так как только в борьбе чувствует он самого себя, чувствует бесконечно любимую жизнь.
Эта борьба Жана-Кристофа не остывает с годами. Ибо сколь крепка его сила, столь велика его неловкость. Жан-Кристоф не знает своего противника: с трудом изучает он жизнь, и именно то, что он изучает ее так медленно, клочок за клочком, — каждый из них окроплен кровью и слезами гнева, — делает роман таким потрясающим и таким педагогичным. Ничто не дается ему легко, не дается быстро в руки. Он «простак», как Парсифаль, он наивен, доверчив, несколько шумен и провинциален: жернова общества не шлифуют, не сглаживают его, а раздробляют ему кости. Он — интуитивный гений, но не психолог, он ничего не предугадывает, он должен все претерпеть, чтобы познать: «Он не обладал хищным взором французов и евреев, схватывающих мельчайшие лоскутки предметов и расщепляющих их. Как губка, он безмолвно впитывал в себя все. Проходили часы, иногда много дней, прежде чем он замечал, что все восприял». Для него нет ничего внешнего, всякое познание он должен претворить в кровь, как бы переварить. Он не меняет идеи и понятия, как банкноты, а изрыгает всю фальшь, всю ложь и все банальные представления, навязанные ему в юности, и лишь после этого может снова принимать пищу. Чтобы познать Францию, он должен сорвать сперва все ее маски, одну за другой, и, прежде чем достичь Грации, «бессмертно любимой», он должен был пройти через более низкие приключения. А чтобы найти себя и своего Бога, ему надо прожить всю свою жизнь: лишь на другом берегу Христофор познает, что ноша его была благой вестью.
Но он знает, что «хорошо страдать, если силен», и потому любит препятствия на своем пути: «Все великое благостно, и высшее страдание граничит с освобождением. Угнетает, принижает к земле, неизлечимо разрушает душу лишь средняя мера горя и радости». Постепенно он познает своего единственного врага — свою собственную необузданность; он учится быть справедливым и начинает понимать себя и свой мир. Страстность обращается в просветление: он постигает, что враждебность направлена не на него, а на могущество вечных сил, руководящих им, он учится любить своих врагов, потому что они ему помогли познать себя и преследуют ту же цель иными путями. Годы учения прошли, и, как Шиллер прекрасно сказал в письме к Гете: «Годы учения — понятие относительное, они требуют коррелята — овладения мастерством, и только представление о нем объясняет и обосновывает их». Стареющий Жан-Кристоф начинает ясно понимать: в своих превращениях он постепенно стал самим собою, он отделался от всех предрассудков, он «свободен от всякой веры, всяких химер, свободен от предрассудков народов и наций», и потому способен к великой вере в жизнь. Он свободен и все же исполнен благоговения, с тех пор, как ощутил смысл своего пути. И «transfigure par la fob, «преображенный верой», его некогда столь наивный, шумный оптимизм, восклицавший: «Что такое жизнь? Трагедия. Ура!» — возвышается в нежную всеобъемлющую мудрость. «Служить Богу и любить его — значит служить жизни и любить ее», — вот вера его свободного духа. Он предвидит грядущие поколения и приветствует в них, враждебных ему, вечную жизнь. Он видит, как его слава воздвигает своды своего храма, но ощущает ее как нечто далекое. Он, раньше нападавший бесцельно, сделался вождем, но собственная цель становится ему ясной, лишь когда смерть овевает его звучащей волной и он уносится в великую музыку, в вечный мир.
Читать дальше