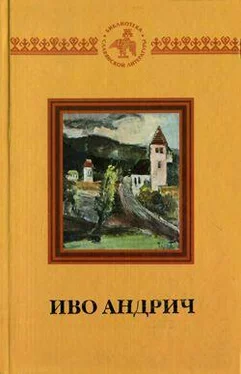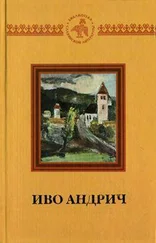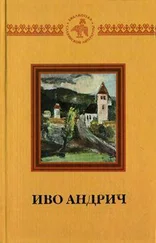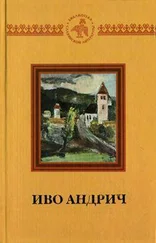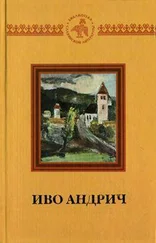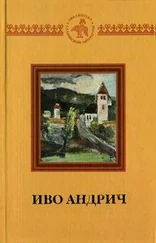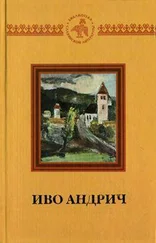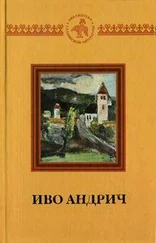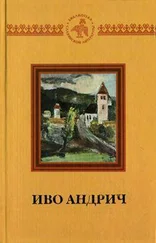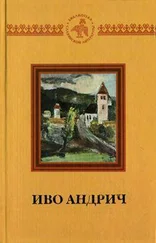– А сердцето у меня есть! – продолжает он, колотя себя в грудь, и, тараща свой единственный глаз, обводит собеседников отчаянным взглядом. – У всех у вас вместе взятых нет столько сердца, сколько у меня. Вот попугал вас начальник полиции – вы и думать про нее забудете. А за сто форинтов и к фалакам [2]привяжете. А Чоркан – нет! Погибну, а в обиду ее не дам. Царю и тому не позволю пальцем ее тронуть!
Он задыхается, сипит от возбуждения. Хозяева – кто слушает, кто смеется.
В другие вечера он совершенно забывал о себе и говорил только о швабочке или вспоминал покойников и плакал навзрыд, словно те лишь вчера скончались.
Так проходили дни – представления, стрельба в тире, детский визг на площади, неслышные слезы в домах и дикие попойки, возникавшие сами собой и вовлекавшие всех мужчин подряд, стоило спуститься сумеркам. Местечко гуляло напропалую. Даже лавки кое-где не отпирались. Но вот пронесся слух: комедиантам приказано убраться в двадцать четыре часа.
В этот самый день, после обеда, когда все спали, Чоркан соорудил на берегу реки, неподалеку от местечка, шалаш из ракитовых веток, заколол барашка, опустил в воду арбузы и ракию и стал ждать торговцев. Первым пришел Авдага Са-рач.
Зеленый берег. У самых ног журчит вода. Листва на ветвях, из которых построен шалаш, подсохла и шелестит на предвечернем ветерке.
Оторвали голяшки, чтобы заморить червячка, пока придут остальные. Чоркан ест, а Авдага лишь макает указательный палец в соль и щиплет брынзу. Пьют умеренно. Закурили. Авдага пускает дым в усы.
– Слушай, Чоркан! А чтоб ты стал с ней делать, если бы ее тебе отдали? Сказали бы: вот тебе швабочка, делай с ней что хочешь! А?
– Да ничего бы не делал.
– Ну?!
– Я бы к ней, кажись, и не притронулся.
– Брешешь, сукин сын, ты б ее быстро в гроб вогнал. Авдага чуть заметно улыбается и укоризненно качает головой.
– Не тронул бы, ей-богу, жизнью клянусь! Знаешь, заснул я, горемыка, вчера под вечер в конюшне у Раги-бега, и снится мне – стоит она на одной ноге, как на проволоке, руки в стороны развела, а другой ногой – вот так вот делает. – Чоркан положил кусок брынзы и рукой показывает, как танцовщица балансирует на проволоке. – Господи, просыпаюсь и щупаю сено и прутья над собой. И такая тоска меня взяла, думал – сердце разорвется, пока опять не заснул.
Пришли Станое, шерстобит Коста и еще кое-кто. Сумбо уже вытирал усы и продувал зурну, собираясь заиграть, когда появился мясник Пашо и принес весть, что завтра в полдень цирк и швабочка уходят.
Все замолчали, потрясенные. Чоркан позеленел и только переводил взгляд с одного на другого. У хозяев уже развязались языки, а он никак не мог прийти в себя. Внутри что-то дрожало, да с такой силой, что отшибло память и отнялся язык. Под ложечкой саднило, он боялся пошевельнуться, на лице застыла страшная, безумная гримаса. Господам пришлось растолкать его, чтоб он резал мясо и наливал ракию.
Над жнивьем пополз туман, и огонь запылал ярче. Сумбо заиграл, и все гикнули в один голос. Авдага пил ракию из кофейной чашечки, он то и дело опрокидывал ее и каждый раз чокался:
– Ешкуна, ешкуна! [3]
Надвигалась ночь. О швабочке и о распоряжении начальника полиции все словно забыли – одна песня сменяла другую. Ракия лилась рекой. Время шло.
Чоркан сидел неподвижно, в оцепенении: разве мог он петь и пить, когда его била дрожь, и он слышал только себя, и собственный голос больно резал слух.
Костер угасал. Разгорались на небе звезды. Гуляки пошли по домам.
На каждом шагу они спотыкались и приваливались к заборам, которые шатались и трещали. Впереди шагал Сумбо, без передышки выводя на зурне самые высокие переливы, а за ним остальные – с шумом, гамом, осыпая Чоркана тычками и пинками. Так они вошли в местечко.
В такую ночь пьяным на улицах тесно. Низко нависло осеннее небо, то и дело вспыхивают крупные звезды и падают. С гулом надвигаются даль и вышина. Ветер с шумом гуляет вокруг них и в них самих, и каждый присоединяет к нему собственный голос – громкий, изменившийся, грубый и чужой.
Гуляки замедлили шаг и с трудом втиснулись на узкий деревянный мост, загудевший под их сапогами.
Словно поток ворвались они в трактир Зарии. Зазвенели оконные стекла. А потом послышалась зурна, гиканье, глухой треск. Станое, которого в местечке зовут Артистом, ведет коло. Он уже седой, сгорбившийся, но танцует отлично, старательно перебирает ногами. За ним мужеподобная косоглазая цыганка Шаха, потом Мангураш, Авдага, хаджи Шета, жестянщик Санто, а замыкающий в коло – сараевец Димшо, франт с мадьярским зачесом.
Читать дальше