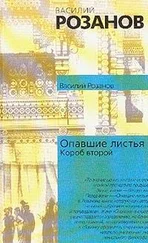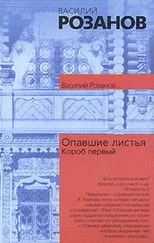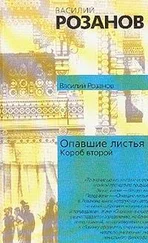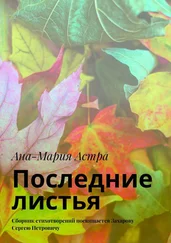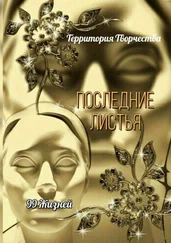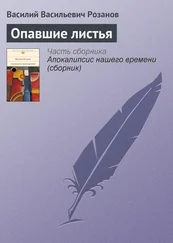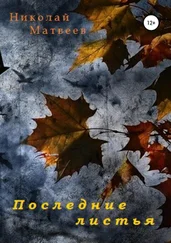И вот подло («комически») написанную вещь общество восприняло подло: и в этом заключается все дело. Чернышевские — Ноздревы и Добролюбовы — Собакевичи загоготали во всю глотку: — А, так вот она наша стерва. Бей же ее, бей, да убей.
Явилась эра убивания «верноподданными» своего отечества. До 1-го марта [11] Имеется в виду 1 марта 1881 г., когда народовольцами был убит император Александр II.
и «нас», до Цусимы [12] В Цусимском морском сражении 14–15 (27–28) мая 1905 г. в Корейском проливе, около острова Цусима, во время русско-японской войны флот России потерпел поражение от японского флота. Цусима стала нарицательным обозначением грандиозного поражения.
.
* * *
23. I.1916
Действие «М.Д.» и было это: что подсмотренное кое-где Гоголем, действительно встретившееся ему, действительно мелькнувшее перед его глазом, ГЛАЗОМ, и в чем гениально, бессмысленно и по наитию, он угадал «суть сутей» моральной Сивухи России — через его живопись, образность, через великую схематичность его души — обобщилось и овселенскилось. Дробинки, частицы выросли во всю Русь. «Мертвые души» он не «нашел», а «принес». И вот они «60-ые годы», хохочущая «утробушка», вот мерзавцы Благосветовы [13] Григорий Евлампиевич Благосветов (1824–1880) — журналист и публицист, издатель-редактор журналов «Русское слово», «Дело». В первом коробе «Опавших листьев» Розанов писал о нем «В жизни был невыразимый холуй, имел негра возле дверей кабинета, утопал в роскоши, и его близкие (рассказывают) утопали в „амурах“ и деньгах, когда в его журнале писались „залихватские“ семинарские статьи в духе: „все расшибем“, „Пушкин — г…o“. Но холуй ли, не холуй ли, а раз „сделал под козырек“ и стоит „во фронте“ перед оппозицией, — то ему все „прощено“, забыто…» (СПб., 1913, сс. 120–121).
и Краевские, [14] Андрей Александрович Краевский (1810–1389) — журналист, издатель «Отечественных записок». Розанов писал о нем: «Цензор только тогда начинает „понимать“, когда его Краевский с Некрасовым кормят обедом. Тогда у него начинается пищеварение, и он догадывается, что „Щедрина надо пропустить“» (Розанов В.В. Уединенное. М., 1990, c.208).
которые «поучили бы Чичикова». Вот совершенная копия Собакевича — гениальный в ругательствах Щедрин. Через гений Гоголя у нас именно появилось гениальное в мерзостях. Раньше мерзость была бесталанна и бессильна. К тому же, ее естественно пороли. Теперь она сама стала пороть («обличительная литература»). Теперь Чичиковы стали не только обирать, но они стали учителями общества.
— Все побежало за Краевским. К Краевскому.
У него был дом на Литейном. «Павел Иванович уже оперился».
И в трубу «Отеч. Записок» дал «Евангелие общественности».
* * *
26. I.1916
Вот ты прошел мимо дерева: смотри, оно уже не то.
Оно приняло от тебя тень кривизны, лукавства, страха. Оно «трясучись» будет расти, как ты растешь. Не вполне — но тенью:
И нельзя дохнуть на дерево и не изменить его.
Дохнуть в цветок — и не исказить его.
И пройти по полю — и не омертвить его.
На этом-то основаны «священные рощи» древности.
В которые никто не входил никогда.
Они были — для народа и страны как хранилища нравственного. Среди виновного — они были невинными. И среди грешного — святыми.
Неужели никто не входил?
В историческое время — никто. Но я думаю, в доисторическое время «Кариатид» и «Данаид»?
Эти-то, именно эти рощи были местом зачатий, и через это древнейшими на земле храмами.
Ибо храмы — конечно возникли из особого места для столь особого , как зачатия.
Это была первая трансцендентность, встретившаяся человеку (зачатие).
* * *
2. II.1916
Поговорили о Гоголе, обсуждали разные стороны его, и у него мелькнули две вещи:
— Всякая вещь существует постольку, поскольку ее кто-нибудь любит. И «вещи, которой совершенно никто не любит» — ее и «нет».
Поразительно, универсальный закон.
Только он сказал еще лучше: что «чья-нибудь любовь к вещи» вызывает к бытию самую «вещь»; что, так сказать, вещи рождаются из «любви», какой-то априорной и предмирной. Но это у него было с теплом и дыханием, не как схема.
Удивительно, целая космогония.
И в другом месте, погодя:
У Гоголя вещи ничем не пахнут [15] Как неоднократно говорил Розанов, его интересуют не факты, а общие идеи. Поэтому его утверждение, что у Гоголя вещи ничем не пахнут, не следует понимать буквально. Запахи у Гоголя, конечно, присутствуют. В начале «Невского проспекта» читаем: «…с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими только что выпеченными хлебами»; в повести «Шинель» Акакий Акакиевич, «взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов».
. Он не описал ни одного запаха цветка.
Читать дальше