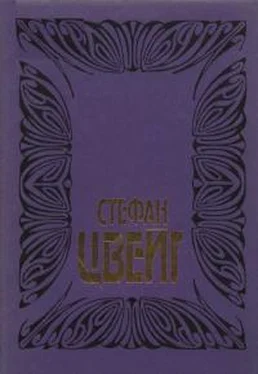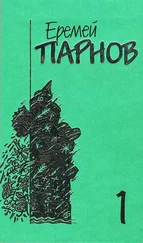Музыка принесла ей стихи, музыка их же уносит от нее в мир. Подруги и посторонние кладут на ноты ее песенки; она изумлена, ей не верится, что они вдруг улетают в мир, окрыленные. Как некогда с любовью, так и теперь со славой: не привыкшая к счастью, она не может с ней освоиться, не может поверить, что эти стишки, которые она сочиняла за работой, наполовину играя, наполовину во сне, имеют какую-то ценность, какое-то значение. Ведь творчество было для нее только опиумом, небольшой радостью в великих страданиях, самообманом, своими восторгами и муками похожим на любовь:
Comme une erreur plus tendre elle a sa volupté [63] Как в более нежной ошибке, в нем есть наслаждение (фр.).
, —
и вдруг приходят люди, великие, знаменитые поэты и празднуют это как литературу. Сент-Бев приветствует ее стихи гимном; Бальзак, приветливый колосс, задыхаясь и пыхтя, взбирается к ней по ста тридцати ступеням, чтобы выразить ей свое восхищение; Виктор Гюго восторгается ею еще мальчиком. Со слезами и трепетом отвергает она все похвалы как незаслуженные, ей чудится чуть ли не насмешка в этом поклонении света, как некогда в поклонении Вальмора. Никакая слава не может ее отучить от все той же глубочайшей скромности. Она «stupide de joie» [64] Сама не своя от радости (фр.).
, когда ей скажут несколько приветливых слов; а когда Ламартин, знаменитейший из современников, приветственно обращается к ней с великолепными стихами, она содрогается, словно от ангельского зова. В ответном стихотворении, где на прекрасные строки она откликается еще более прекрасными, она испуганно отклоняет всякую славу:
Oh! n’as-tu pas dit le mot gloire?
Et ce mot, je ne l’entends pas [65] О, ведь ты сказал: слава! А этого слова я не слышу (фр.).
.
Снова и снова указывает она на ничтожество своей маленькой особы:
Je suis trap buissonnière, et ce n’est pas aux champs
Qu’il faut apprendre à moduler ses chants;
II faut, ce qui me manque, une sévère école
Pour livrer sa pensée au vent de la parole [66] Я чересчур дикарка, а слагать напевы учатся не в полях; чтобы вверять свою мысль ветру слова, нужна строгая школа, а этого-то мне и недостает (фр)-
.
Она склоняет голову перед малейшим поэтом, перед последним дилетантом и чуть ли не коленопреклоненно расточает ученическое благоговение перед госпожой Тастю, средней руки жеманной стихотворицей. Она всю свою жизнь не понимает, что такое литература. В оставшихся после нее трехстах письмах напрасно было бы искать хотя бы одну строку, имеющую отношение к этой ярмарке тщеславия; с удивительной, неисправимой наивностью она так же недооценивает себя, как переоценивает других. Латуша, автора «Фраголетты», этого сомнительного друга, она называет «homme d’immense génie» [67] Человек огромного гения (фр.).
и чувствует себя пожизненно обязанной ему, потому что он когда-то подсчитывал слоги в ее стихах и нашел ей издателя. Она и тут — вечно склоненная, вечно преданная, «néе à genoux» [68] Родившаяся коленопреклоненной (фр.).
, как она сказала однажды. Даже литература ничего не может поделать с ее одухотворенной застенчивостью.
Никак, никак не может она постигнуть того чуда, что ее маленькая, тесная, злополучная жизнь, ее угнетенные, робкие чувства могут в ком бы то ни было возбуждать внимание и сочувствие. Ведь это же только ее слезы переливаются в ее стихах, мимолетные кристаллы, которыми жизненная стужа, столкнувшись с внутренним жаром, усыпала, словно ледяными цветами, зеркальную поверхность ее судьбы. И действительно, «larmes et pleurs» [69] Слезы и плач (фр.).
— это те два слова, которые проходят сквозь все ее творчество, это вечный припев ее стихов; скорбь и несчастье, эти подлинные звезды ее жизни, были и единственными вдохновителями ее поэзии. Но мало-помалу чувство ширится, отклоняется от личных переживаний и выливается в великое сострадание. Ее личная жизнь растворяется во вселенском чувстве. Надменная романтическая скорбь, которую она в свое время невольно переняла у плохих подражателей Байрона, мало-помалу вырастает, в силу внутренней доброты, в трагическое чувство счастья, а в то же время ее язык освобождается от всякой романтической напыщенности. Ее тихий голос становится громким, окликая других; братское сочувствие всякому земному страданию помогает ей, в позднейших ее стихах, достигать возвышенного пафоса. Она призывает всех униженных:
Vous surtout qui souffrez, je vous prends pour mes soeurs,
Pleureuses de ce monde où je passe inconnue [70] См. с. 85, «Плачущим сестрам».
.
В своем голосе она чувствует жалобу всех матерей, все слезы мира сливаются с ее слезами, тысячи вздохов окрыляют ее поэзию. И в Лионе, восставшем городе, ее жалоба становится обличением, ее голос переходит в крик. Это застенчивое, доверчивое дитя любовь превратила в женщину, а материнство и скорбь сделали ее человеком и собратом людям. Она обвиняет, она дрожащим пальцем указывает на пушки, которые расстреливают живых людей, отцов, жен и матерей, и тревожное время невольно преображает ее в великого гражданского поэта. Она рисует нужду рабочих, глумление богатых и комедию судов, она обращается ко всему человечеству и возвышает свой голос к Богу. Всякому несчастью она сестра:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу