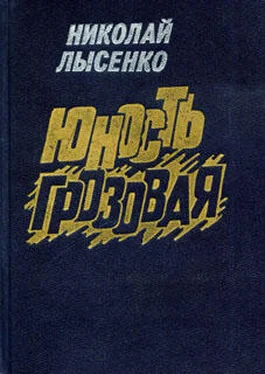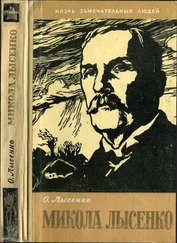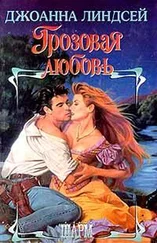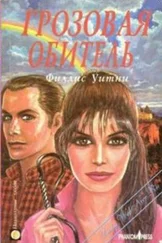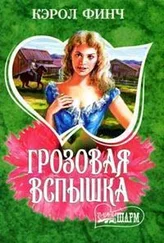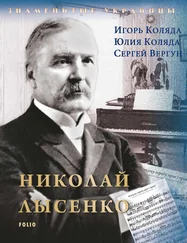— К кому же такой соловей прилетел? — усмехнулась одна из больных, кивая на окно.
Таня открыла форточку и увидела Василька. Он что-то говорил ей, но слов его не было слышно. Таня показала ему рукой на дверь и вышла из палаты.
Встретились они в укромном уголке коридора за ширмой, где в ожидании починки лежала старая мебель.
Поздоровавшись, Василек протянул Тане сверток: несколько кусочков сахара, хлеб и стакан сливочного масла, купленного им на базаре.
— Тебе сейчас нужно больше есть, слабая ты, — скороговоркой сыпнул он, чтобы опередить ее возражения.
— Зачем же ты, — Таня опустила глаза. — Сам, наверно, недоедаешь? — Мне хватает, — ответил он. — Куплю еще.
Сказал и смутился: стыдно стало за свою ложь.
— Нам за погрузку вагонов премию дали.
— Тебе всегда премию дают в тот день, когда идешь ко мне?
Василек хотел было откровенно признаться, что деньги он снова занял у Степки, но вовремя спохватился: о Степке она ничего не должна знать.
— Знаешь, Таня, когда я собирался к тебе, — начал он неуверенно, — бабушка Агафья просила передать…
— Откуда же она знает обо мне?
— Я говорил ей.
Он произнес это таким виноватым голосом, что Тане стало жаль его и неловко за свою недоверчивость.
— Не обижайся, я просто так… Спасибо за все…
Довольный своей выдумкой, Василек повеселел. Он вспомнил, как утром, опаздывая па работу, бежал по заводскому двору и, наскочив впопыхах на мастера своего цеха, чуть не сбил его с ног.
— Думал, станет ругать, аон… ничего. Только вечером, когда принимал от нас упаковку, сказал: «Ты бегай осторожнее, не то и себе, и другим голову снесешь».
Он поднял на Таню смеющиеся глаза и вдруг спросил:
— А тебя скоро выпишут?
— Не знаю, а что?
— Куда же потом, после больницы?
— Сейчас еще рано об этом, — Таня вздохнула и посмотрела в окно на заснеженную улицу, на спешивших по ней пешеходов. — Ты, наверно, вернешься в Степную? Не получил еще от бабушки ответа?
— Она скорее сама придет сюда пешком, чем напишет письмо.
— А мне ведь ехать некуда.
Василек взял ее руку осторожно, словно боялся причинить боль.
— Ты останешься здесь?
Таня неопределенно пожала плечами и, освобождая ладонь из его теплых рук, ответила:
— Не знаю, сейчас я ничего не знаю.
«Если она не поедет в Степную, я тоже останусь здесь, — подумал Василек. — В городе даже интереснее, чем в станице… Сказать ей об этом? А бабушке напишу, что работаю, пусть не беспокоится».
— Я сегодняшней ночью видел во сне…
— Что же ты видел? — насторожилась Таня. — Тебя в голубом платье.
— Почему в голубом? — улыбнулась девушка. — У меня никогда не было такого платья.
— Откуда я знаю! Сны же не приходят по заказу.
— А дальше что же?
— Идешь ты по полю, трава густая-густая, до пояса. А кругом цветы: белые, желтые, синие, как у нас на лугу, за Тростянкой. Подошел я к тебе и говорю…
Василек замолчал.
— И что же ты сказал?
— Вот… прочитаешь.
Вытащив из кармана записку, сложенную треугольником, Василек подал ее Тане.
— Только сейчас не нужно, потом прочитаешь. Он встал и, пятясь к ширме, виновато промолвил:
— Ты не обижайся, Таня, я завтра приду.
Оставшись одна, Таня развернула записку. На четвертушке бумаги крупными буквами было выведено:
«Ты лучше всех, Таня! Я л…. тебя! Понятно?»
Она свернула листок, положила его в карман халата и подошла к окну. Солнце заливало город ярким, но еще холодным светом…
Несколько дней Миша с Федей по настоянию Захара Петровича почти не показывались во дворе. По утрам Лукич, предусмотрительно запасшийся гусиным жиром, ревностно исполняя роль лекаря, густо смазывал ребятам обмороженные щеки, после чего они лоснились, как бока начищенного медного чайника, за чистотой которого следил сам Захар Петрович.
Все заботы по уходу за скотом взяли на себя Захар Петрович с Лукичом и трое ворчливых, но работящих женщин, присланных навремя болезни ребят Василием Матвеевичем Бачуренко.
Оторванные от повседневных хлопот, Миша с Федей томились от безделья, готовили еду, топили печку, подметали саманку, чтобы как-то скоротать время. А когда со двора приходили Захар Петровичи Лукич, они встречали их одним и тем же беспокойным вопросом: «Ну, как там?» В ответ слышали: «Ничего, терпим, солома пока еще есть». Им не говорили, и они не знали, что время прибавило новые заботы: близился зимний окот овец. Однажды ночью Федя, как всегда спавший с Мишей на соломе возле печки, отыскивая в темноте свои валенки, нащупал пальцами что-то живое, покрытое шерстью. Отдернув руку, он сел на постели, ударил коленом Мишку в бок и испуганно закричал:
Читать дальше