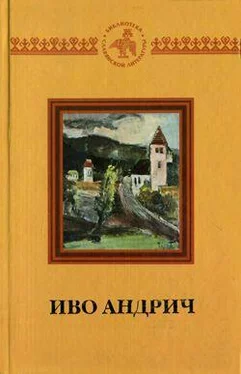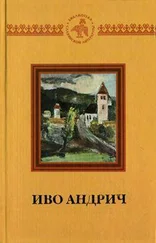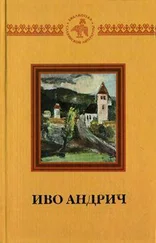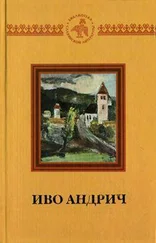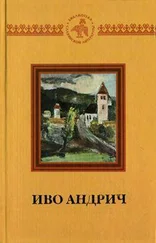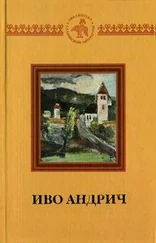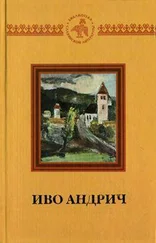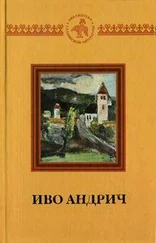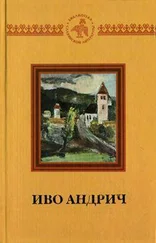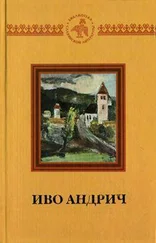Он петлял, плел и путал, стараясь уверить Степана, что у него нет ни денег, ни драгоценностей. Как трудно доказывать правду, которая кажется невероятной! Особенно в такое время и такому человеку! Глаза его наполнялись слезами от искреннего гнева на самого себя, на то, что он был мотом и картежником и у него действительно нет денег, а этот усташ ему не верит и никогда не поверит. Люди столько лгут друг другу, особенно, когда речь идет о деньгах, что уже никто никому не верит, даже когда говоришь сущую, истинную правду; и потому он, прекрасно зная, что денег у него нет и быть не может, мучится и обливается потом, стараясь хоть что-нибудь выдумать, наврать, чтобы сделать эту свою правду правдоподобной, чтобы в нее поверил и усташ.
И Менто говорит, оправдывается и клянется всем, что есть на земле и на небе, объясняет, обещает, молит и льстит, нижет слово за словом, вставляет целые фразы, лишенные какого бы то ни было смысла, напрягает свой убогий мозг и пересохшее горло, ибо знает: пока он говорит, а усташ позволяет ему говорить, все еще хорошо, истязания еще не начинаются, еще есть надежда остаться в живых. Говорить – значит отдалять пытку, значит жить.
Он не то, что его единоверцы, говорит Менто, нет, он не кладет денег в банк, не держит их в ящике стола, ящиком ему служит кармашек жилета, да и тут у него деньги не залеживаются. Все-то он проедает и пропивает с дружками и приятелями, которые большей частью и не евреи, между которыми есть и католики. И еще сколько! Нет, нету у него денег, он может в этом поклясться глазами, жизнью своей и покоем мертвой матери. Но когда дело идет о таком человеке, как господин офицер, он не сегодня-завтра постарается их раздобыть, займет у кого-нибудь и отдаст ему. Продаст мебель. Будет работать и экономить – и отдавать ему каждый месяц. Будет надрываться на работе и подыхать с голоду, но господин офицер свое получит. И это для него будут верные деньги, как если бы он их держал в государственном банке на книжке.
Все это было сказано, и снова в полутемной комнате воцарилась тишина; слов этих было слишком мало для того, чтобы растянуть их на всю бесконечную ночь, которая разлеглась, голая, холодная, темная, как зловещий, бесконечный коридор. Все сказано, все, что можно придумать и сказать, и все-таки нужно говорить дальше, как угодно и что угодно. И Менто говорил. Лгал с энтузиазмом, на который может вдохновить человека страх перед страданиями и смертью. Рассказывал со множеством подробностей о каком-то процессе из-за наследства, который до сих пор не шел, как надо, из-за продажности югославских властей, но который теперь, в новых, лучших условиях, сдвинулся с мертвой точки. Не сегодня завтра может выйти решение, которым завещание богатого родственника будет, без сомнения, признано недействительным, и Менто окажется в числе счастливых наследников.
А когда и эта история была досказана, он пустился сочинять другие, еще более нелепые и еще менее вероятные. Его медлительная и бедная фантазия неслась вскачь, спотыкаясь, и, гонимая страхом, делала жалкие и смешные, но невероятные скачки. Он со все большим трудом находил слова и составлял фразы; было отчетливо видно, как он приставляет их одну к другой без большого смысла и со все меньшей убежденностью, но все же продолжал говорить, боясь лишь одного: конца и молчания. И он мог бы продолжать так до зари.
Говоря, Менто весь находился в каком-то дробном движении, все в нем ходило ходуном, заметно и безостановочно: мускулы лица, пальцы, ноги, а глаза его неотрывно искали взгляда усташа, чтобы ответить ему улыбкой.
Между тем Степан Кович совсем ушел в себя, на вид – далекий от взволнованного Менто, но на самом деле гораздо более близкий к нему, ближе, чем этого хотел бы несчастный еврей. Пока Менто, защищая свою жизнь, говорил и выдумывал, Степан, не слушая его, думал свою думу, и притом не одну.
(И Степан Кович выглядел в это время по-своему жалко и растерянно. Лицо болезненно бледно, на нем три темных пятна, три мрачных провала: два черных глаза, соединенные бровями, и невидимый рот, прикрытый коротко подрезанными усами. Сутулый, с впалой грудью, он тонет в походной итальянской форме постного и зловещего зеленоватого цвета. Рукава чересчур длинны, брюки – широки, новые черные ботинки и кожаные краги рассчитаны на более крупного человека. Но Менто не мог видеть перед собой человека как такового – он видел только усташа из своих страшных предчувствий.)
Что, если я сейчас, думал Степан Кович, замахнусь на него ножом, так просто, чтобы посмотреть, что он станет делать и как будет выглядеть? Замахнусь и – может быть, ударю. А почему бы и не ударить? Почему? Захочу – ударю, захочу – не ударю.
Читать дальше