Два года спустя в Антверпене я повстречал отъевшегося Стилитано, ведущего под руку роскошную кралю с длинными накладными ресницами, затянутую в черное атласное платье. Будучи все так же красив, несмотря на грубость лица, облаченный в дорогую шерсть, весь в золотых кольцах, он следовал за нелепой белой моськой злобного нрава. И тут я раскусил этого «кота»: он держал на поводке собственную глупость, свою завитую, разряженную, ухоженную пошлость. Это она семенила впереди него, она вела его по унылому, вечно мокрому от дождя городу. Я жил на улице Сак, возле порта. Ночью я слонялся по барам, по набережным Эско. Эта река, этот город в оправе из краденых бриллиантов ассоциировались у меня с искрометными похождениями Манон Леско. Я чувствовал, что еще немного, и я тоже стану героем романа, войду в образ, идеализирую себя, стану воплощенной идеей каторги, перемешанной с любовью. Вместе с молодым фламандцем, выступавшим в ярмарочном балагане, мы крали велосипеды в городе, который сиял золотом, драгоценностями и морскими победами. Здесь, где Стилитано был богат и обласкан, я буду все так же прозябать в нищете. Я никогда не осмелюсь упрекнуть его за то, что он выдал Пепе полиции. Я даже не знаю, что меня больше возбуждало — то ли Стилитано и его донос, то ли преступление цыгана. Будучи не в силах припомнить подробности — сомнения, придавая рассказу историческое звучание, еще больше приукрашивали его, — Сальвадор с восторгом поведал мне об этом доносе. То и дело срываясь, дабы не походить на слишком светлую песню жертвы, его радостный хмельной голос выдавал горечь и ненависть к Стилитано. Такие чувства только придавали Стилитано силу и возвеличивали его. Мы с Сальвадором даже не удивились нашей встрече.
Благодаря тому, что он прожил в Ла-Линеа какое-то время и с ним считались, я избежал уплаты дани, которую собирали со всех двое-трое здоровых грубых нищих.
Я подошел к Сальвадору.
— Я узнал, как все было, — сказал он.
— Что?
— Что-что? Арест Стилитано.
— Он арестован? За что?
— Не строй из себя младенца. Ты знаешь это не хуже меня.
Мягкость Сальвадора уступила место желчной сварливости. Он разговаривал со мной резко и рассказал мне об аресте моего друга. Это случилось не из-за накидки или какой-то другой кражи, а из-за убийства испанца.
— Это не он, — сказал я.
— Конечно. Всем это известно. Это сделал цыган. Но Стилитано заложил его. Он знал его имя. Цыгана разыскали в Альбасете. Стилитано арестовали, чтобы уберечь его от братьев и дружков цыгана.
По пути в Аликанте, из-за внутреннего сопротивления, которое мне пришлось преодолеть, из-за всего того, что мне пришлось пустить в ход, чтобы избавиться от так называемых угрызений совести, кража, которую я совершил, стала в моих глазах очень суровым и очень чистым, почти блестящим деянием, сравниться с которым может разве что бриллиант. Сделав это, я снова разрушил — и, как я себе говорил, теперь уже раз навсегда — священные узы братства.
После такого преступления на какое моральное совершенство могу я рассчитывать?
Эта кража была вечно со мной, и посему я решил сделать ее источником морального совершенства.
Это трусость, безволие, гнусность и подлость (я характеризую данный поступок лишь словами, применимыми к бесчестью)… ни одна из его составных частей не дает мне шанса его воспеть. И все же я никогда не отрекусь от этого самого чудовищного из моих детищ. Я хочу населить весь мир его мерзким потомством.
Однако я не могу слишком долго задерживаться на этом периоде моей жизни. Моя память жаждет, чтобы он канул в Лету. По-видимому, она стремится размыть его очертания, присыпать его тальком и предложить ему некий состав, подобный молочной ванне, которую модницы XVI века именовали ванной скромности.
Наполнив свой котелок остатками солдатского супа, я примостился в каком-то закутке для одинокой трапезы. Я бережно хранил в душе воспоминание о благородном и гнусном Стилитано. Я гордился его силой и не сомневался в его сговоре с полицией. Весь день я был печален, но серьезен. Какая-то неудовлетворенность проступала в каждом, даже самом незатейливом из моих движений. Мне хотелось, чтобы зримая сияющая слава осенила кончики моих пальцев, чтобы моя могучая сила оторвала меня от земли, взорвалась во мне и расчленила меня, развеяв по ветру. Тогда я пролился бы на землю дождем. Мой прах, моя пыльца прикоснулись бы к звездам. Я любил Стилитано. Но любить его в каменистой суши этой страны, под неумолимым солнцем было изнурительно, эта любовь опаляла мои веки огнем. Мне не мешало немного поплакать, чтобы облегчить душу. Или говорить без умолку, с блеском перед внимательной и почтительной аудиторией. Но я был один, без друзей.
Читать дальше
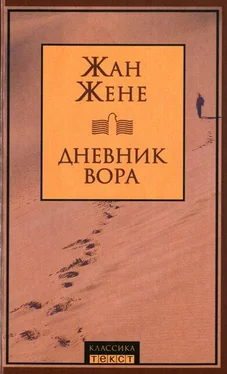








![Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-thumb.webp)
