Однако ни о каком «снаряде» тут и речи быть не могло: во-первых, откуда бы, а во-вторых, отверстие было явно проделано человеческими руками, аккуратно и с бесспорным стремлением не повредить крышу ни на одну гонотúнку лишнюю. Даже и без Пичигалкиных предупреждений такое зрелище показалось бы мне загадочным; теперь же я просто остро нуждался в объяснениях.
Бородатое и простоволосое лицо Василия Чибисова преисполнилось радости оттого, что это именно он сможет удовлетворить мое любопытство.
— Слышь, мáлец, — многозначительно подмигнул он мне. — Куды тебе гонцы-то гнать? Никуды твой Микитич не уйдет; он и с дому теперь уже не кажный день выходя. Давай слезай с жеребца да вот садись на канавинку, на край, — не бойся, земля теперь, что печка теплая, задницу не застудишь, — и я тебе все это святое описание расскажу — как и что тут у нас вышедши.
Я сделал по его указанию. Мы сели рядом. Мне стало как-то сразу легче и спокойнее, потому что в сидячем положении Чибисов не размахивал «крыльями» и не «порхал» из стороны в сторону, да и в груди у него перестало ныть и подвизгивать, и я сказал: «Ну?»
Нет, конечно, он не ответил мне «с маху», одним словом; по-видимому прикидывал, с чего ему выгоднее будет начать. Он просто сидел на бровке канавы, вертя в руках какой-то придорожный цветок, «что твоя барышня», и поглядывал то на небо с толстыми круглыми облаками, то на Заскочиху, то на меня.
— Ну, чего я табе, Василич, долго плацформу подводить-то буду; ты и без меня главное все знаешь. Живут в деревне Заскочиха Медведовской волости Скопской губернии три брата Денисенки: Никешенька, старший, медовик и садовод, середний — Ляксей Денисыч, сапожник; ну и младший, Михайла; недавно, конечно, выучился на кузнеца; кузницу вон, за садом, видишь, у дороги отхлопал! Живут, никто про них слова дурного не скажет: три брата, три мастера! И всим народам от их польза. И так — что ты?! Чем их осудишь — ребята смирные, вежливые, особенно уж этот Мишенька, — кошке на хвост не сяде, скаже: «Няньк [4] «Няньк» — почтительно-ласковое обращение к старшей сестре и вообще молодой близкой родственнице. (прим. автора.)
, подвинься!» И женки у старших двоих — слова плохого не выговоришь: у Никеши бран со Щипачева, у Леши… Ай, памжа, вот забыл… здаля откуда-то! Да никак с самого Астротова. Словом, все хорошо, одно плохо — матка у их, Марья Герасимовна, соплашенная ведьма…
— Ведьма? То есть как это ведьма? — от неожиданности растерялся я. — Что, злая баба? Ругательница?
— Ох, Василич, Василич! — снисходительно покачал головой рассказчик. — Злая баба, так она злая и есть. Их в кажной деревне, что курей. Ругателька, ругателька: мало ли их? А я тебе говорю: матка у их — законная ведьма!
— Ну, слушай, Чибисов! — сказал я не без досады. — Да откуда ты это взял?
— Ай, барин, да рази ето я узял? Да ето вся волость взяла. Ну, вот я вам про такой случай расскажу, а вы уж сами думайте, что он значе. Вот живу я тут тихо-смирно. И пущает моя баба с прошлой весны у нас на племя белых курей-тальянок: в Прискухе достала — барское наследство. Хорошо! Кура ходе белая, пятун ходе белый, — биз отметины! Других курей коло нас нетути. Слышишь? Вот наклала наша Белянка яец; женка моя сажае яну на яйца. Кура села добро; крепко сидит; поклевать и то раз в три дни сходе. И надо ж на памжу, на Фомино воскресенье, вздумайся моей хозяйке с-под кровати тое лукно вытянуть, послухать, не попискивают ли в яйцах типлята? Так она его с курой волокет — кура-то: «Кр-р-р-р! Оставь, значит, меня, баб, на месте!», а баба того не понимае, — тяне яну на середку избы. Так в лукне и вытащила! И только она с-под ей первое яечко добывае, дверь — раз настежь! И тая, Герасимовна, в избу — скок! Ну, что ж? Пришла, так пришла: она так-то старуха добрая и вумная, есть с ким поговорить. «Вот, — говоре, — шла мимо, да, думаю, узгляиу я на Минишну на мою, как она тут по избе мечется…» А Матреной Минишной мою женку кличут; так ета Герасимовна яну горазд любе. И надо ж, завидела она, как на памжу, тое лукно и тую куру. И усмехнувши так, и говорит: «Беленьку курочку на беленьки яечки от беленького петушка посадила? Ну, беленьких типляток и дождешь»… Сказала — пырьх! И полетела к себе на двор… Ну, женка моя — мне: «Вась, боюся я, как бы она моей куре чего не сделала!» Еще я ей ответил: «Да брось чудить: она ж к тебе своя». (А в моей Матрехи у ейного Никешки сын крещена: кума и кума!) Так? Ладно! Проходят три дни, начинают тыи типлята лупиться… Ну, не поверишь, Василич, хоть бы один беленький: двадцать три штуки — и все коноплястые [5] «Коноплястые» — в мелкую пестринку. (прим. автора.)
, что куропаточье яйцо! Ну, скажи, не у ёй сделано?
Читать дальше
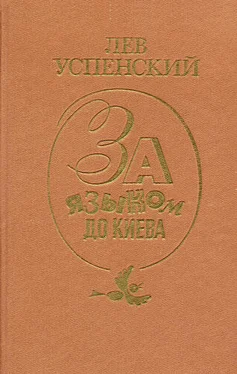





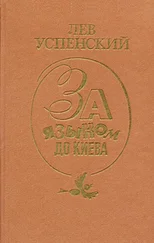
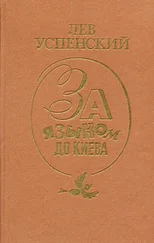
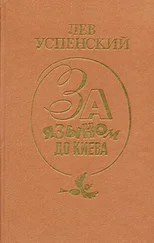
![Лев Успенский - Солдатский подвиг [Рассказы]](/books/403674/lev-uspenskij-soldatskij-podvig-rasskazy-thumb.webp)