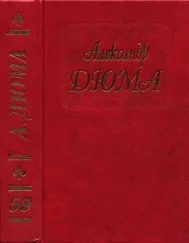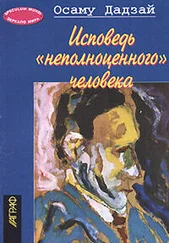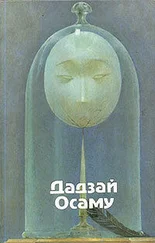Вот Сэцуко, например. Приводит ко мне в комнату свою подругу. Ясное дело, я смешу их, потом подруга уходит, и Сэцуко обязательно говорит о ней гадости: паршивая девица, держись подальше от нее и тому подобное. Уж лучше бы вообще не приводила ее, и так у меня в гостях бывают одни только бабы.
И все же пророчество Такэити в полной мере тогда еще не сбылось. Собственно, чем я был в то время? Всего лишь местным Гарольдом Ллойдом. Только по прошествии нескольких лет глупый комплимент Такэити обернулся зловещей явью, расцвел пышным цветом и дал горькие плоды.
В свое время Такэити сделал мне еще один «подарок».
Однажды он появился у меня с какой-то книгой в руках, раскрыл ее и с победным видом показал цветной фронтиспис.
— Привидение, — пояснил он.
Что-то внутри меня оборвалось в этот миг. Уже потом, гораздо позднее я понял, что именно тогда передо мной развернулась пропасть, в которую я до сих пор продолжаю лететь. Картину я узнал — это был знаменитый автопортрет Ван Гога. В то время в Японии начался бум вокруг французских импрессионистов, собственно, от них пошло увлечение европейским искусством. В любой деревне школьник по репродукциям знал Ван Гога, Гогена, Сезанна, Ренуара. Я особенно интересовался Ван Гогом, видел много цветных репродукций его работ, уже тогда меня восхищала кисть художника, свежесть палитры, но, признаться, его картины никогда не ассоциировались у меня с чертями, привидениями.
— Ну а это — тоже привидение? — Я снял с полки альбом Модильяни и показал ему картину, на которой была изображена бронзово загорелая женщина.
— Вот это да! — воскликнул потрясенный Такэити.
— Напоминает лошадь из преисподней.
— Нет, все-таки привидение.
— И мне хотелось бы писать такие привидения... — вырвалось у меня.
Люди, чувствующие страх перед себе подобными, как ни странно, испытывают потребность воочию видеть чудовищ — этого требует их психология, нервная организация; чем более человек подвержен страху, тем сильнее он желает неукротимых страстей. Эта кучка художников немало настрадалась от людей. Загнанные ими, художники уверовали в фантасмагории настолько сильно, что чудовища представали их глазам средь бела дня, и они безо всякого лукавства стремились изобразить эти видения как можно явственнее и совершеннее. Так что Такэити, категорично заявлявший, что они пишут привидения, был прав. И вот в моем лице будущее дало им сподвижника... Тут сильное волнение охватило меня, я чуть не прослезился.
— В моих картинах тоже будут химеры, привидения, кони из преисподней, — сказал я почему-то очень тихо.
Еще в начальной школе я увлекался рисованием, любил рассматривать картинки, но считалось, что рисунки мне удаются хуже, чем сочинения. Впрочем, к тому, что говорят люди, я никогда не питал доверия, что же касается моих сочинительских опытов, то слишком хорошо я знал: они мне нужны единственно для того, чтоб доставить удовольствие учителям — сначала в начальной школе, потом в средней; сам же относился к ним как к чему-то вроде клоунады, считая совершенно неинтересными. И лишь когда я рисовал (не шаржи, конечно), я работал вдохновенно, мучась тем, как лучше передать натуру. Причем с самого начала шел своим путем. Школьные учебники по рисованию были скучны, работы учителей казались мне мазней, приходилось напрягаться в поисках собственных средств выражения. Еще в средней школе у меня были все принадлежности для работы маслом, но картины обычно получались какие-то плоские, как детская аппликация из цветной бумаги, — вероятно, оттого, что я руководствовался школьными пособиями; хотя они и были составлены под влиянием импрессионистов, подражание не могло дать плодов. И именно Такэити помог мне разглядеть, где в своих художнических принципах я был неправ. Слащаво и глупо стараться так же красиво воспроизвести то, что воспринимаешь как красивое; большие художники из ничего, своей волей творят прекрасное. Испытывая тошноту при виде безобразной натуры, они не скрывают тем не менее интереса к ней. В общем, не без помощи Такэити я пришел к примитивизму. И вот, тщательно скрывая это от своих посетительниц, я приступил к работе над автопортретом.
Получалась вещь трагическая, от которой мне самому становилось не по себе. На картине был я — тот я, которого я сам старался поглубже упрятать, тот я, на губах которого всегда ухмылка, я, веселящий всех вокруг, но с душой, которую гложет вечная тоска. «А получилось неплохо», — одобрял я свою работу, но не мог показать ее никому, кроме Такэити: опасался, что люди смогут выведать мое самое сокровенное, не хотел, чтобы меня от чего-нибудь предостерегали, боялся и того, что в портрете не увидят меня и сочтут его очередной блажью шута, страшился, что он вызовет только хохот, а это было бы горше всего... В общем, я упрятал автопортрет как можно дальше в стенной шкаф.
Читать дальше