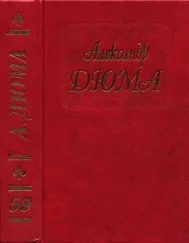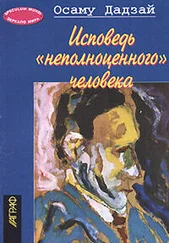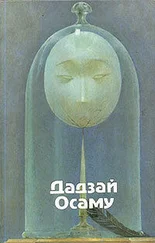Есть такое слово: отверженные. Так называют обычно жалких потерянных людей, нравственных уродов. Так вот, начиная с самого рождения я чувствовал себя отверженным, и, когда встречал человека, которого тоже так называли, я чувствовал прилив нежности к нему и тогда не мог сдержать восхищения самим собою.
Есть еще понятие: криминальная настроенность. Всю жизнь и этом мире людей я страдал под тяжестью этой настроенности, но она была и самым верным спутником в моих мытарствах, .1 моя с обществом взаимная игра была как бы частью натуры. М просторечии говорят: иметь на душе грех. Так вот, грех запятнал мою душу самым естественным образом еще с пеленок; по мере того как я рос, он не только не спал с души, но, наоборот, разросся, проел душу насквозь, и, хоть я сравнивал свои ночные мучения с мучениями ада, грех стал мне роднее, ближе крови и плоти; боль, которую он причинял душе, стала таком того, что грешная моя душа жива; я стал воспринимать эту боль как ласковый шепот.
На такого человека, как я, атмосфера подпольных кружков действовала, как ни странно, успокаивающе. Иначе говоря, не столько цель этого движения нужна была мне, сколько его внешняя оболочка. А что касается самого Хорики, он только единственный раз пошел на собрание, чтобы, смеха ради, привести меня туда; глупо сострив насчет того, что марксистам одновременно с изучением производственных отношений следовало бы проявить, интерес и к потреблению, он так и поступал: от собраний держался подальше и меня все время таскал за собой «изучать сферу потребления».
Вообще же в то время существовали марксисты самых разных толков — и такие, как Хорики, называвшие себя этим словом из пустого тщеславия, и подобные мне, которые заседали на этих собраниях потому, что им импонировал дух подполья. Пойми настоящие марксисты подлинную сущность своих «попутчиков», они разразились бы праведным гневом и тут же бы выставили мои и Хорики, и меня как ренегатов. Но нас не собирались исключать из кружка, а для меня нелегальная жизнь протекала явно свободнее, чем среди легальных «джентльменов»; мне удавалось «правильно» вести себя, я считался перспективным «товарищем», жутко щеголял таинственностью члена подпольного кружка и даже брал кучу самых разных поручений. Никогда ни от чего не отказывался, спокойно брался за все, о чем ни просили, и, как ни странно, все шло у меня гладко, без сучка и задоринки, я ни разу не допустил оплошности, так что «легавые» (так среди кружковцев принято было называть полицейских) меня никогда не задерживали и не допрашивали; все поручения я выполнял, смеясь и смеша других, притом корректно (надо заметить, что все кружковцы к любому делу относились как к чему-то сверхважному, очень сосредоточенно, работали с чрезвычайной осторожностью, на полном серьезе подражая героям детективов). В то время как мне все поручения казались совершенно пустячными, «товарищи» любили лишний раз подчеркнуть опасный характер предпринимаемого. Настроение в то время у меня было такое, что я спокойно вступил бы в партию и пожизненно сел в тюрьму — страх, который я испытывал перед реальным миром, был настолько силен, наполненные стонами бессонные ночи были настолько мучительны, что я предпочел бы жизнь в тюремной камере.
С отцом я виделся редко, раз в три-четыре дня; то он был занят с гостями, приезжавшими к нам на дачу, то уезжал сам. Присутствие отца меня угнетало, я боялся его и стал уже подумывать о том, как бы снять где-нибудь комнату, чтобы жить одному. И тут я услышал от старика-управляющего, что отец вроде бы намеревается продать дом.
Наступал срок отцу складывать свои депутатские обязанности, более свою кандидатуру он выставлять не собирался, были этому, видимо, какие-то причины. В родных местах он построил новый дом, в котором намеревался спокойно доживать жизнь; по Токио, как видно, не тосковал, а ради меня, гимназиста, считал неразумным содержать особняк и слуг. (Отца я не понимаю точно так же, как и всех других в этом мире.) Как бы то ни было, но вскоре дом перешел к другому хозяину, а я снял себе комнатку в другом месте, в квартале Моригава. И сразу же оказался без денег.
Прежде я получал от отца определенную сумму на карманные расходы, от которой, правда, через два-три дня ничего не оставалось, но зато в доме всегда были сигареты, сакэ, сыр, фрукты, а книги и письменные принадлежности в любое время можно было взять в кредит в ближайших лавках — как-никак я жил в районе, где депутатом был мой отец, так что имел возможность в любом магазине брать, что мне надо, и спокойно уйти, не говоря ни слова.
Читать дальше