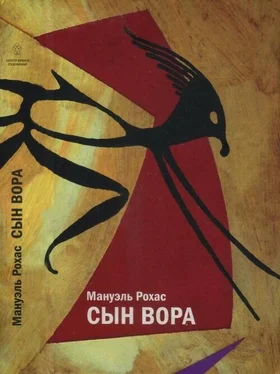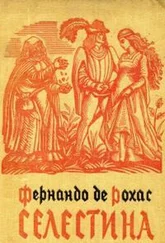— Пять песо штрафа или пять суток ареста, — уже с меньшим энтузиазмом произнес судья. — Уведите!
И облегченно, всей грудью вздохнул. Подсудимые тоже повеселели и, толкаясь, кинулись к дверям. Сурик оглянулся и дружески мне подмигнул. Я понял — он подождет и заплатит. Да напрасно он станет меня ждать. Я себе представил, как его ведут из здания суда в дом предварительного заключения и как, расплатившись с полицией, он терпеливо сидит на скамье или мерит шагами коридор. Я увидел его кирпично-красное, все в набухших гнойных прыщах лицо; язык, поминутно слизывающий слюну с губ; пустую коробку от сигарет и пол, заплеванный мокрыми окурками.
Как мне было убедить судью, что я не грабил этот ювелирный магазин, что я и в глаза не видел людей, которых в этом обвиняли, что я даже не знал, как называется улица, где меня схватили, что вообще я порядочный человек или по крайней мере считаю себя таковым. Судья не мог бы доказать обратное — против меня у него тоже не было никаких улик, но мое имя фигурировало в этом чертовом протоколе, а главное, там значилось еще имя пострадавшего владельца магазина, который предъявил иск. Это уже было настоящее обвинение. Судья есть судья — он на то и поставлен, чтобы не доверять подсудимому; ему надлежит верить полицейскому протоколу, не сомневаться в его истинности, если не будет доказана прямо или косвенно его недостоверность. И тогда он, судья, может снизойти и поверить, что протокол не соответствует действительности. Если, разумеется, кто-нибудь не возьмет на себя труд — тоже прямо или косвенно — доказать несправедливость заявления, утверждающего, что протокол не соответствует действительности. И кто только, черт возьми, придумал всю эту бюрократическую волокиту? Какой-нибудь чиновник полиции? А может, тот усатый офицер из предварительной тюрьмы или какой-нибудь другой, безусый, — это уж, я думаю, особой роли не играет. Важно, что протокол составлен по всей форме и, следовательно, судья должен ему доверять, иными словами — доверять составителю этой бумаги, кто бы он ни был. Потому что кому же еще верить, если не полиции? Если он, судья, станет слушать обвиняемого, так на что он тогда годится?
— В тюрьму! Судить!
После изнурительного дня и нескончаемой ночи с сумятицей, драками и сумасшедшей беготней, после комиссариата и того грязного пьяницы в камере, после следственной тюрьмы с ее безмолвием, мраком, тараканами и клопами, после унизительного марша по улицам, после предварительного судебного разбирательства и нелепого допроса, после томительного ожидания и оглушительной развязки, после тоски и удушья — светлая, просторная камера в доме предварительного заключения, чистый пол, высокая и редкая решетка на дверях и длинные прямоугольные окна справа и слева успокаивали и даже радовали.
Жандарм щелкнул замком, и мы остались в камере — восемь новых постояльцев лицом к лицу с двумя, а может, тремя десятками старожилов. Были среди них пожилые и молодые, одетые прилично — жилет, воротничок, галстук, шляпа — и такие, что были без пиджака и даже босиком; были здесь самонадеянные и робкие и еще какие-то веселые, развязные парни. Хоть бы одно знакомое лицо. Хоть бы кто-нибудь улыбнулся, посочувствовал. Равнодушные или любопытные взгляды безучастно скользили по нашим лицам, встречая ответное безучастие, к которому примешивалась робость, естественная для человека, попавшего в чужой стан. Они-то уж давно перезнакомились, а некоторые даже подружились за много дней, проведенных в этих стенах. Мы же среди чужих, да и друг друга едва знаем в лицо, потому что нас свели вместе всего несколько часов назад, и за это время нам не удалось даже словом переброситься, а судить нас будут за одно и то же, общее преступление! Но хуже всего было мне. У них, у моих товарищей по несчастью, есть по крайней мере в этом городе дом и семья; у меня же — никого.
Мы сразу разбрелись по камере. Я откололся от других или они от меня — уж не знаю, как вернее сказать. Нас было восемь, и мы разделились на три группы: четверо, трое и один — если, конечно, считать, что один тоже составляет группу, — и каждая устроилась как могла. На нарах валялись постельные принадлежности: подушки, одеяла, тюфяки — какие поновее, а какие и похуже — и даже простыни (неслыханная роскошь!). На одной из этих постелей сидели и о чем-то разговаривали четверо. Казалось, для них больше никого не существовало. Все они были средних лет, благообразные с виду, хотя щеки давно не бриты и волосы торчком. Чем-то они показались мне знакомыми, точно я их раньше видел; я подумал, что, наверное, это воры. В глубину камеры забились какие-то одинокие угрюмые личности — кто сидел на краю нар, кто подпирал плечом стену. О чем они думают, кто такие — не разберешь. Держатся особняком, всех сторонятся. Дальше я заметил еще группки по два-три человека, которые были не похожи на воров и на угрюмых тоже, неопределенные какие-то личности. Под конец мне бросились в глаза несколько ладных, крепко сбитых и чуть-чуть нагловатых парней — почти все босые и без пиджаков. Эти, не скрывая неприязни, окинули нас холодными, суровыми взглядами. Угрюмые посмотрели с грустью; те, третьи, неопределенные личности, глянули разок и отвернулись; ну, а воры, я думаю, даже не заметили нашего появления.
Читать дальше