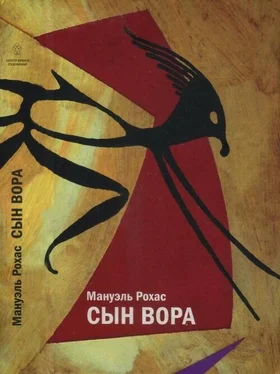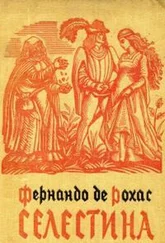Спустилась ночь, а я все бродил, прибиваясь то к одной кучке людей, то к другой. Крики и град камней, правда, удовольствия не доставляли — сам я не кричал и фонари не бил, — а все-таки было забавно, и я никак не мог уйти… «Я напишу тебе из…» Я забыл теперь и про друга, и про пароход, который его увез. За прозрачными витринами, посреди флаконов и флакончиков, наполненных разноцветными жидкостями, посреди зеркал и стеклянных шкафов стоят, кажется, тоже стеклянные аптекари. Они с любопытством и удивлением разглядывают улицу, всем своим видом показывая, что не имеют ни малейшего отношения к происходящему, а тем более — к трамвайным тарифам и продуктовым лавкам. Они лишь продают лекарства, а значит, помогают людям, облегчают их страдания, хотя, надо думать, у них тоже рыльце в пушку, потому что торговец — он торговец и есть, на том свете и то изловчится. Но их никто не трогал. Простой люд, столпившийся на улице, все эти рабочие и поденщики, служащие и бродячие торговцы и еще какие-то сомнительные типы, которые здесь и там мелькали в толпе, по опыту знали, что без аптеки на худой конец можно обойтись, что это тебе не булочная или зеленная лавка, куда бежишь каждый день, и что аптекарь тебе ни разу не отказал в кредите, потому что кому придет в голову просить микстуру от кашля или порошки от бессонницы в долг? Потом аптекарь и обвесить тебя не может — сам он лекарств не готовит, по крайней мере ты этого никогда не видел, — и аптекари вроде бы не такие жадюги, как лавочники. Ну, а если у тебя нет денег купить грудные капли или укрепляющее, так кашляй себе на здоровье и тощай или лечись домашними снадобьями — дешевле получится. С другой стороны, что возьмешь в аптеке? Нужно быть идиотом, чтобы тащить коробку рисовой пудры или зубную щетку. Другое дело — хлеб или сахар, бобы или картофель, или кофе, или чай, или масло; попробуй без них проживи, попробуй изготовь дома или раздобудь на стороне какой-нибудь продукт взамен. Мать семейства, жена безработного, инвалида или рабочего с нищенским жалованьем изворачивается, как может, продает обувь и одежду, несет в ломбард старое одеяло, берет взаймы. Но вот наступает отчаянная минута, когда остается только одна надежда (какая уж там надежда!), что не устоит, окажет милость лавочник, у которого много лет подряд ты покупал соль и бобы. И ты умоляюще смотришь на этого приветливого, доброго с виду человека без передника, в потертых штанах и нижней рубахе, а он равнодушно стоит за прилавком в ожидании покупателей или болтает с ними, старательно выговаривая или смягчая на итальянский манер чужие слова. У него одна забота: продать товар, продать — и больше ничего; в кредит он не отпускает.
— Сегодня в кредит не отпускаем, приходите завтра. Вы мне уже и так задолжали семь песо.
— Потерпите немного, дон Хуан. Муж сидит без работы.
— Он вечно без работы.
— Вы же знаете: все дубильни закрыты.
— Поискал бы другую работу.
— Так он искал. Но безработных полно. Кризис.
— На вино небось денег хватает.
— Какое там вино… да у нас со вчерашнего дня крошки во рту не было. Чаю и то купить не на что. И еще малыш заболел.
— Понимаю, но не могу же я давать только в долг; вы и так много задолжали.
Лавочник отворачивается, неестественно и напряженно вытянув шею, молчит и курит свою дешевую сигарету. Чувствуется, что ему не по себе, но ведь нельзя всю лавку раздать — так недолго и разориться. И женщина тоже смущенно отворачивается. Подхватив дырявую кошелку и тряхнув старенькой юбкой, она неловко пятится к двери. Дома в грязной каморке ее ждет голодный муж, который надеется, что она принесет хоть кусок хлеба. А когда узнаёт о неудаче, яростно сжимает кулаки, готовый убить всех на свете.
— Погоди, ты еще дождешься, сукин сын! Придет твой черед.
Вот он и пришел, этот черед. Что ж до аптекарей которые, точно заспиртованные, неживые, двигались в своих безукоризненно белых фартуках за стеклянными витринами, то они не спешили, как другие хозяева, повесить замок на двери или спустить жалюзи — эти неживые с виду человечки надеялись поживиться за счет непорядков: а вдруг кого-нибудь ранят, либо изобьют, или кто в обморок упадет. Можем отпустить валерьянку, бром, снабдить ватой, бинтами и йодом, выдать кислородную подушку. Все мастерские, магазины и лавки — зеленные, фруктовые, мясные, булочные — закрылись разом. Даже шорные и москательные, которым вовсе нечего было бояться разбушевавшейся толпы — кому в этакой неразберихе придет в голову красть хомут или гвозди? — закупорились на все ставни и засовы; правда, на покупателя им рассчитывать не приходилось. Чем чернее становилась ночь, тем меньше оставалось освещенных витрин. Только третьесортные лавчонки, ютившиеся в жалких клетушках, где за прилавком помещался разве что сам хозяин и его немудреный, да и несъедобный товар, еще продолжали храбро торговать кусками труб, мешками с цементом и листами железа. В такой лавчонке вам и починят, что нужно, и продадут старую керосинку, газовую плиту и другую рухлядь, которую никак не перепутаешь с бобами. Лишь редкие полоски света, выбивающиеся из этих полумастерских-полумагазинов, разрезали темноту улиц, усеянных осколками фонарей.
Читать дальше