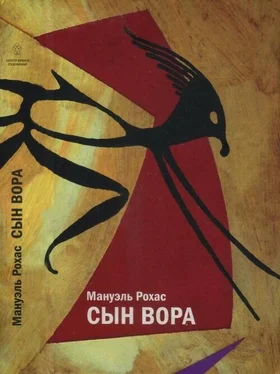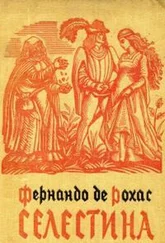— Надеюсь, не навечно.
Одну только неделю, с утра до ночи, голодный, неумытый, я мотался по дому, выполняя разные поручения, выслушивая ругань Исайи; но и за эту неделю я понял, что страшнее, чем потерять мать, чем потерять отца (ведь если отец томится в Сьерра-Чика или Ушуайя [6] Сьерра-Чика, Ушуайя — места ссылки на Огненной Земле.
, он для тебя потерян), было незаслуженно терпеть пинки и издевательства бессовестного забулдыги. Исайя был скотина порядочная. А от скота чего и ждать — попадешься к нему в руки, пощады не жди; он не скупясь раздает своей подкованной железом деревяшкой пинки всякому, кто под ногу подвернется, будь то человек или собака, курица или цесарка, индюк или Бартола — та самая Бартола с добрыми, лучистыми глазами. Когда он в первый раз больно пнул меня ногой, я до того удивился, что даже не заплакал. Дома меня никогда не били, разве что мать иногда шлепнет или отец ласково щелкнет по носу. Исайя неожиданно пнул меня в поясницу своим копытом — как еще назовешь его деревяшку, подкованную железом? От боли у меня искры из глаз посыпались, язык отнялся и слезы высохли. По-настоящему я наплакался, только когда мой палач ушел, — я плакал не от боли, а от стыда и ярости. Я все пытался понять, за что он меня ударил. Неужели за то, что я съел за завтраком лишний кусок хлеба? И я решил отомстить — заливаясь слезами, я нащупал камень и припрятал его до поры до времени у столба в курятнике. Дня через два-три после того он опять меня пнул своим копытом — но это уже в последний раз — за то, что я забыл налить курам воду и дать цесаркам корм, который надо было собирать за насыпью на железной дороге. Мне было и стыдно, и больно, но по крайней мере я знал, что делать. Этот негодяй (он даже и не подозревал о моем плане) решил, видно, что мне еще мало влетело, и снова меня лягнул. Сдерживая рыдания, я протянул руку, достал камень и швырнул, его, не глядя. Камень угодил старику в голову. Он вздрогнул, покачнулся и, схватившись за висок, ошалело на меня посмотрел. Еще не бывало, чтобы кто-нибудь дал ему сдачи — жена покорно сносила его побои, и даже собака, жалобно тявкнув, спасалась бегством от его тумаков. Увидев на его щеке струйку крови, я обтер руки, точно счищая с них приставшую грязь, и побежал в задний конец двора, где вечно стояли лужи и непролазная грязь. Я перелез через забор и взобрался на железнодорожное полотно. Потом остановился и посмотрел назад — Исайя все еще рассматривал окровавленную руку; Бартола стояла рядом и, точно прощаясь, глядела мне вслед.
Помедлив еще немного и дав им вволю на меня насмотреться, я послал последнее прости моему одеялу, повернулся спиной к городу и двинулся в путь. Я дошел до станции и сел отдохнуть. А под вечер там остановился товарный поезд. Из вагона выглянуло несколько парней. Я подошел ближе. Парни посмотрели на меня, а я на них. Куда они едут? Похоже, что на заработки. Тут меня окликнул высокий худой парень с пышными волосами и красивыми зелеными глазами:
— Эй, малец! Поехали с нами!
— Куда ехать-то? — спросил я, уже занося ногу на ступеньку вагона.
Все дружно улыбнулись:
— Кукурузу ломать.
Тогда меня взяло сомнение.
— Лезь, не бойся, — одобряюще кивнул зеленоглазый.
А что мне бояться? Не я первый иду в люди. И я поднялся в вагон.
Так я пошел в люди, взяв с собой из прошлого только память о матери да отца-вора, приговоренного к долгим годам каторги, и раскиданных по свету братьев, — нелегкая ноша для моих детских плеч, но другим доставалась доля и потяжелее. У меня было хотя бы то утешение, что мне на долю выпало почти счастливое детство, когда у меня были и дом, и ласка, и родители, и братья. Я всегда чувствовал потом, что, несмотря на тюрьмы, несмотря на полицейских, это детство было мне опорой и поддержкой. Детство и отрочество я всегда вспоминаю с неизъяснимой нежностью. Единственное, что омрачало эти воспоминания, был Исайя. Но с ним мы квиты: по крайней мере я перед ним не в долгу. Я с ним хорошо рассчитался за гостеприимство — еще сейчас вижу, как он стоит, схватившись за голову рукой, по которой стекает тонкая струйка крови, и ошалело на меня смотрит, не понимая, как мог сын соседки Росалии отплатить ему такой черной неблагодарностью. Я ни на секунду не пожалел, что угостил его на прощание, как и он, надо думать, не очень-то угрызался, раздаривая свои пинки.
Через два месяца, когда закончился сбор урожая, я вернулся в Буэнос-Айрес. За это время я вытянулся и в руках появилась сила. Висенте, тот самый парень, который первым меня увидел из вагона и позвал с собой, опекал меня и дальше. Я помогал ему и работал вместе с ним от зари до зари. Он шил мешки. Работа прибыльная, но зато на ладонях и пальцах через несколько дней живого места не остается — веревка точно ножом разрезает кожу, а назавтра в еще не зажившую ранку снова впивается острая пенька; длинная изогнутая игла, вгрызаясь в мешковину, царапает ладони, толстый шпагат натирает мозоли. А работу оставить нельзя ни на секунду. В конце концов руки до того затвердевают, что лезвие ножа, если провести по ладони, скользит, как по ногтю.
Читать дальше