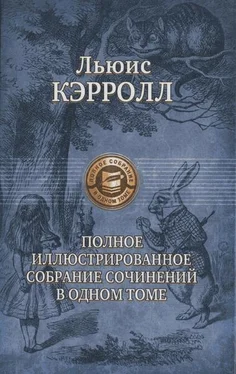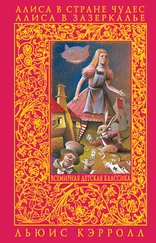Льюис Кэрролл
НОВИЗНА И РОМАНЦЕМЕНТ
Сначала у меня были серьезные сомнения, следует ли назвать этот фрагмент моей жизни «Плач» или «Пеан», ибо славное и величественное в нем соседствует с мрачным и безрадостным. В поисках чего-то среднего между этими двумя крайностями я наконец выбрал вышеозначенный заголовок. Разумеется, это было ошибкой — я всегда ошибаюсь, — но давайте рассуждать спокойно. Истинный оратор никогда не поддается вспышке страстей с самого начала: он отдает дань безобидным банальностям и постепенно усиливает свой пыл — vires acquirit eundo [1] Здесь: набирает силу по мере движения (лат.)
. Итак, в первую очередь будет достаточно сказать, что меня зовут Леопольд Эдгар Стаббс. Я четко объявляю этот факт в начале повествования, дабы предотвратить для читателей любую возможность перепутать меня с однофамильцем, достойнейшим сапожником, проживающим на Поттл-стрит в Камберуэлле, или с моим менее почтенным, но более известным тезкой Стаббсом, актером легкого комедийного жанра из провинции. Родство с обоими из них я отвергаю с ужасом и пренебрежением; впрочем, без всякого намерения причинить обиду поименованным лицам — людям, которых я никогда не видел и, надеюсь, никогда не увижу.
Что ж, хватит банальностей.
Теперь поведайте мне, люди, сведущие в толковании снов и знамений, как могло случиться, что в пятницу вечером, бодро свернув на Грейт-Уоттл-стрит, я испытал внезапное и неприятное столкновение со скромным индивидуумом невзрачного вида, но с глазами, в которых пылал огонь гениальности? Я мечтал по ночам, чтобы великое намерение моей жизни осуществилось. Что это было за намерение? Я вам расскажу. Со стыдом и печалью, но расскажу.
С раннего отрочества моей жаждой и страстью (преобладавшей над любовью к мраморным шарикам и идущей вровень с пристрастием к ирискам) была поэзия в широчайшем и первозданном смысле — поэзия, не скованная законами здравомыслия, рифм или ритма, парящая во вселенной и вторящая музыке сфер! С юности — нет, даже с колыбели — я томился по поэзии, красоте, новизне и романцементу [2] Слова romancement в английском языке нет; автор выводит его от romance в значении «романтика». Однако есть термин Roman cement (романцемент — гидравлический вяжущий материал, получаемый из мергелей тонкого помола). Эта игра слов лежит в основе сюжета. — Прим. пер.
. Когда я говорю «томился», то пользуюсь словом, лишь в малой степени выражающим гамму чувств, владевших мною в более спокойные моменты; он не более способен описать безудержный пыл моего энтузиазма, чем бессодержательные картины, украшающие фасад Адельфи [3] Адельфи — комплекс общественных и жилых зданий в Лондоне; построен во второй половине XVIII в. братьями Адамами. — Прим. пер.
и изображающие Флексмора [4] Ричард Флексмор (1824–1860) — известный клоун и мим Викторианской эпохи. — Прим. пер.
во многих мыслимых позах, до которых еще никогда не удавалось довести человеческое тело, способны внушить гипотетическому интеллектуалу истинное представление о чудесах ловкости, демонстрируемых этим необыкновенным соединением человеческой природы с индийской резиной.
Я немного отошел от сути; это качество, с вашего позволения, вообще свойственно жизни. Как я однажды заметил по поводу, описать который в подробностях не позволяет время: «В конце концов, что такое жизнь?» Ни один из присутствующих (нас было девять человек, включая официанта, и вышеупомянутое замечание было сделано сразу же после того, как унесли суп) не оказался в состоянии рационально ответить на этот вопрос.
Стихи, которые я писал в юности, выгодно отличались полной свободой от условностей и таким образом были неподходящими для жестких требований современной литературы. В будущем, «когда Мильтон и подобные ему будут забыты!» — как часто восклицал мой почтенный дядюшка, их будут читать и восхищаться ими. Я твердо убежден, что, если бы не этот благожелательный родственник, моя поэтическая натура никогда бы не проявилась в полной мере; я до сих пор помню свой восторг, когда он предложил мне шесть пенсов за рифму к слову «деспотия». По правде говоря, мне так и не удалось найти рифму, но уже в следующую среду я написал хорошо известный «Сонет о мертвом котенке», а за следующие две недели создал три эпических поэмы, названия которых, к сожалению, изгладились из моей памяти.
За свою жизнь я принес в дар неблагодарному миру семь томов поэтических произведений. Их постигла судьба творений истинного гения: насмешки и забвение. Дело не в том, что в их содержании есть изъяны. Какие бы недостатки ни приходили на ум, еще ни один обозреватель не осмелился критиковать их. Это великий факт.
Читать дальше