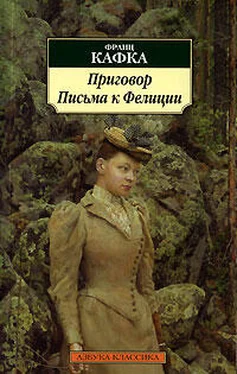И опять эти строчки в книге. [107]Мне горестно их читать. Ничто не позади, ни мрак, ни стужа. Но я почти боюсь переписать их своей рукой, словно этим только узаконю возможность существования подобных вещей в написанном виде. Какие опять нагромождаются недоразумения.
Сама посуди, Фелиция, единственное, что произошло, – это что писать я Тебе стал реже и иначе. Что было итогом предыдущих, более частых писем? Тебе известно. Мы должны начать сначала. Это «мы», однако, относится не к Тебе, потому что Ты жила и живешь в правде, [108]во всяком случае в том, что касается себя; это «мы» скорее относится ко мне и к тому, что между нами. Но для такого нового начала не годятся письма, сколь бы ни были они нужны, – а они нужны, – однако тогда они должны быть иными, чем прежде. В сущности, Фелиция, в сущности… – Памятны ли Тебе те мои письма, что я писал Тебе года два назад, по-моему, в это же время, после Франкфурта? Поверь мне, в сущности, я вовсе не далек от того, чтобы прямо сейчас начать писать их сызнова. Они замерли на кончике моего пера. Но написаны не будут.
Почему Ты сомневаешься, что для меня было бы счастьем (а счастье у нас – боль вряд ли, но счастье у нас должно быть общим даже вопреки «Саламбо», книге, которая, кстати, всегда была мне немного подозрительна; на «Воспитании чувств» Ты бы такого написать не смогла) – почему Ты не уверена, что для меня было бы счастьем пойти в солдаты, если предположить, конечно, что здоровье мое выдержит, на что я, впрочем, надеюсь. В конце этого месяца или в начале следующего я иду на освидетельствование. Пожелай мне, чтобы меня взяли, как я того хочу.
А на Троицу мы встретимся. Жаль, что я все еще не имею от Тебя вестей. Если у Тебя хоть малейшие возражения против Боденбаха, я попытаюсь получить паспорт и Тебя навестить; даже в Берлине, если иначе нельзя…
Франц.
Письма идут слишком медленно, одно все еще в пути, из беспокойства о Тебе пишу эту открытку, прими ее всего лишь как рукопожатие, остальное в письме. Сегодня узнаю, что 24 апреля Ты была в Будапеште, то есть мы, вероятно, были там в один и тот же день; какая благосклонная и неумелая случайность! Я был там вечером всего два часа на обратном пути, но легко мог остаться и до утра. Как глупо! Большая часть всех моих приятных чувств в Будапеште свелась к тому, что я думал о Тебе и о том, что Ты там была (во времена, которые только по видимости были для нас лучшими), о том, что у Тебя там сестра и так далее и тому подобное. В совокупности это было, пожалуй, чувство близости, но подумать, что Ты там на самом деле, что могла внезапно появиться перед мои столиком в кафе! Как глупо!
Дорогая Фелиция, недавно Ты задала мне несколько фантастических вопросов относительно жениха Ф. Теперь я могу лучше на них ответить, ибо неотрывно наблюдал за ним на обратном пути в поезде. [110]Это оказалось более чем легко, ибо давка была такая, что мы с ним буквально теснились вдвоем на одном месте. По моему мнению, он просто пропадает от любви к Ф., видела бы Ты, как он всю дорогу черпал в ветке сирени (он никогда ничего подобного с собой не берет) воспоминания о Ф. и ее комнате. По другую сторону сидел старый господин В. и декламировал стихи Гейне. Слушателю его сам господин В. нравился, а вот стихи Гейне – нет. Ему нравится лишь одна маленькая строчка, да и та, быть может, вовсе не Гейне. Она в качестве эпиграфа, по-моему, неоднократно встречается в произведениях Гейне. «Она была мила, и он любил ее. Но он мил не был, и она его не любила. Старая песня». Но я-то хотел писать не о Гейне, а сообщить Тебе различные сведения, которые Ты, судя по всему, желала узнать. Об этом позже. Полагаю, интересующий Тебя субъект питает ко мне больше доверия, чем к Ф.
Дорогая Фелиция, он, видишь ли, говорит, что ему не по себе. Он говорит, что оставался там слишком долго. Два дня, видите ли, это слишком много. После одного дня расстаться легко, а вот за два дня возникают привязанности, разрыв которых причиняет боль. Спать под одной кровлей, есть за одним столом, одни и те же часы суток пережить вместе по два раза – все это при некоторых обстоятельствах являет собой чуть ли не церемонию, за которой уже повеление и завет. Он, по крайней мере, так это чувствует, и оттого ему не по себе, он просит фотографию с черникой, хочет знать все о зубных болях и с крайним нетерпением ждет вестей. Впрочем, я вовсе не хочу сказать, что он сейчас несчастлив, он радуется тому, что его, быть может, все-таки возьмут. [111]Если же, что, правда, было бы очень худо, его все-таки не возьмут, тогда он в полную противоположность к вышеозначенному своему желанию как можно скорее хотел бы предпринять совместную поездку на Балтийское море.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу