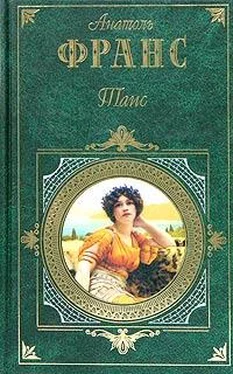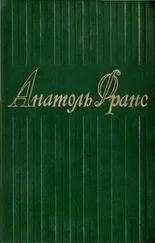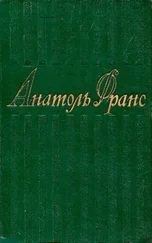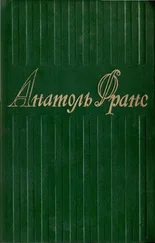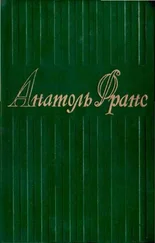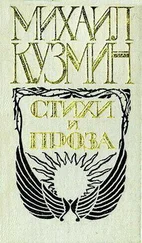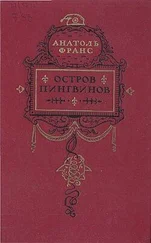Расцветшая в эпоху Возрождения, новелла стала традиционным, излюбленным жанром французской литературы. В ней оттачивались краткость и точность, которые Франс считал «свойствами подлинно французского гения». «Мне бы хотелось, — говорил он, — чтобы по-прежнему создавали прекрасные французские новеллы, мне бы хотелось, чтобы писали изящно и легко, а также коротко. Ведь именно в этом — не так ли? — высшая учтивость писателя».
Изяществом и легкостью дышит у Франса каждая строка, но это не значит, что его новеллы — всего лишь филигранные безделушки. Они не только живописны, но и современны. В уме писателя-эрудита проблемы современности постоянно проецировались в прошлое, а прошлое постоянно подсвечивалось современностью. Таков вообще закон исторической прозы (если, конечно, это проза, а не прикладная литература, написанная для развлечения или поучения): чем она достовернее, точнее в изображении духа и деталей эпохи, тем острее и современней. Современно само художественное осмысление писателем истории в самом широком смысле слова: истории общественной и частной жизни в их взаимодействии, материальной и духовной культуры.
Если в романе «Таис», действие которого приурочено к трагической эпохе гибели античной цивилизации, выведен антигерой Пафнутий, то, казалось бы, теперь, в новеллах ренессансного цикла, должен появиться сам герой-гуманист. Действительно, мы постоянно слышим его голос, хотя не можем отождествить ни с кем из персонажей. Это голос рассказчика, и рассказчик этот представляется кем-то наподобие ученого монаха Боккаччо, художника Вазари, историка Поджо — человеком, ценящим радости земного бытия, к которым причисляется также и радость творчества, философского размышления.
Новая ипостась франсовского героя — аббат Жером Куаньяр. Действие романа «Харчевня королевы Гусиные лапы» относится к двадцатым годам XVIII века, то есть к начальному периоду Просвещения, когда молодой Вольтер еще только набирался вольномыслия в Англии, «Персидские письма» Монтескье были будоражащей умы новинкой, не успевшей еще проникнуть в те не слишком высокие слои общества, где вращаются герои романа, а великий Дидро был не старше юного Жако Турнеброша.
И «Харчевня», и «Суждения господина Жерома Куаньяра» вышли в свет почти одновременно, в 1893 году. Любопытно происхождение имени главного героя романов. Псевдонимом «Жером» Анатоль Франс в течение нескольких лет подписывал выдержанные в памфлетном стиле статьи «Парижской хроники» — рубрики, которую он вел в журнале «Юнивер иллюстре». Имя же «Куаньяр» не вымышлено: в XVII—XVIII веках однофамильцы аббата были издателями и книгопродавцами в Париже. Такая изначальная двойственность героя весьма знаменательна: в Жероме Куаньяре уживаются эрудит начала XVIII века и памфлетист конца XIX. И если в герое «Харчевни» преобладают гены Куаньяров из книжной лавки, то «Суждения» произносит переодетый в рясу аббата господин Жером.
По существу, два романа, хотя и объединенные общими героями, совершенно не похожи друг на друга. «Харчевня» — это небольшая энциклопедия эпохи, несмотря на то, что в ней не выведено ни одно историческое лицо. Быт, нравы, социальные типы — все, вплоть до топографии Парижа, описано абсолютно точно. Юный Турнеброш выполняет в книге роль бесхитростного рассказчика, чье простодушие оттеняет иронию и скептицизм аббата, одного из самых обаятельных героев Франса. Этот бродяга не имеет ни кола ни двора, однако никогда не бывает одинок в своих скитаниях: с ним его вечный спутник Боэций и целый сонм дружественных духов, древних и новых философов и поэтов. Сам он, к слову сказать, был бы достойным спутником героев Рабле: насмешника Панурга и добродушного Пантагрюэля. Едва ли не самое оригинальное в воззрениях аббата — это его неподражаемая вера. Христианская религия для него — образец всепрощения, гуманности, терпимости, учение, отлично приспособленное к такому несовершенному созданию, как человек. «Не судите, да не судимы будете» — вот основная мудрость, почерпнутая им из Священного писания. «Постарайся представить себе род человеческий как бы на качелях, качающихся между проклятием и искуплением, и знай, что в эту минуту я нахожусь на благостном конце описываемой ими дуги, тогда как еще нынче утром я пребывал на противоположном ее конце», — невозмутимо вещает он своему ученику, и читатель — а Франс рассчитывал на более или менее просвещенного читателя — узнает в его словах чуть ли не шаржированные рассуждения классика французской литературы, писателя и мыслителя XVI века Мишеля Монтеня, который писал о мировых качелях — символе изменчивости. Аббата нимало не смущают ни его собственные прегрешения, ни грехи всего рода людского, как, видимо, не смущает и то, что его трактовка церковных догматов далека от ортодоксальной. И если он, как кажется, вполне искренне ставит разум ниже веры, то ведь и вольнодумец Монтень тоже отделял разум от веры, но лишь затем, чтобы не смешивать вещи несовместимые, ибо ничего хорошего такое совмещение не сулит. Кроме того, как заметил известный литературный критик XIX века Шарль Сент-Бев: «Чем выше ворота храма, тем меньше рискуешь расшибить о них голову».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу