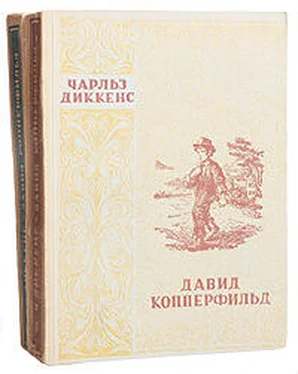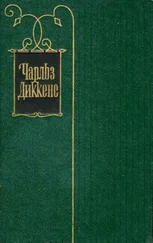— Прекрасно, мистер Копперфильд, — сказал мистер Спенлоу, — тогда мне остается повлиять на дочь.
Мисс Мордстон испустила не то вздох, не то стон, как бы желая показать отцу Доры, что с этого надо было начать. Ободренный такой поддержкой, мистер Спенлоу повторил:
— Да, я должен буду повлиять на дочь. Что же, мистер Копперфильд, вы, значит, отказываетесь взять обратно эти письма? — спросил он меня, видя, что я их положил на стол.
— Да, — ответил я, — надеюсь, что вы меня простите, но я не могу их взять из рук мисс Мордстон.
— А от меня можете? — снова спросил он.
— Нет, — проговорил я самым почтительным тоном, — и от вас не могу их взять.
— Прекрасно, — заявил мистер Спенлоу.
Наступило молчание. Я не знал, что мне делать, — оставаться или уходить. Наконец я направился было к двери, собираясь сказать, что, наверное, мистер Спенлоу ничего не будет иметь против моего ухода, когда он, не без труда засунув руки в карманы своего сюртука, остановил меня, сказав серьезным и даже торжественным тоном:
— Вам, наверно, известно, мистер Копперфильд, что я не совсем лишен имущественных благ и что дочь моя является самой близкой мне и дорогой родственницей?
— Надеюсь, сэр, — поспешил я сказать ему, — что вы, не взирая на мою вину, вызванную моей безумной любовью, не подозреваете меня в каких-либо корыстных видах?
— Я вовсе не на это намекаю, — возразил мистер Спенлоу. — Было бы лучше и для вас самих и для нас, мистер Копперфильд, если бы вы были корыстолюбивы, то есть я хочу сказать, если бы вы были более благоразумны, сдержанны и не увлекались бы до такой степени всеми этими ребяческими глупостями. Нет, я спрашивал вас совсем с другой целью, известно ли вам, что у меня имеется кое-какое имущество, наследницей которого является моя дочь.
Я ответил, что, конечно, предполагал это.
— Вы, работая в «Докторской общине», видите ежедневно, к каким прискорбным последствиям приводит непростительное легкомыслие людей, откладывающих со дня на день составление своего духовного завещания, и потому вы должны быть убеждены, что мое-то личное духовное завещание давно уже сделано.
Я, нагнув голову, подтвердил, что уверен в этом.
— Я не позволю, — продолжал приподнятым тоном мистер Спенлоу, — чтобы мои планы по отношению к дочери были изменены таким образом, как мальчишеская любовь. Все это сущее безумие, скажу больше — глупость. И мы не успеем оглянуться, как и следа от этого не останется. Но если с этой нелепой затеей не будет сейчас же покончено, то… то я, быть может, в минуту беспокойства буду принужден принять меры для защиты моей дочери от последствий безрассудного брака. Надеюсь, мистер Копперфильд, что вы меня не заставите итти на это и изменить давно принятое решение.
Ясное спокойствие, с которым были сказаны эти слова, произвело на меня глубокое впечатление. В выражении лица мистера Спенлоу было что-то, напоминающее закат солнца. Он, повидимому, привел свои земные дела в полный порядок и готов был каждую минуту расстаться с земной жизнью. Да и сам отец Доры был взволнован: мне кажется, я видел слезинки, блеснувшие на его глазах.
Но что я мог поделать? Разве было мыслимо отречься от Доры, отречься от собственного сердца?! Когда мистер Спенлоу предложил мне в течение недели обдумать сказанное им, как мог я ответить, что не стану обдумывать, прекрасно зная, что никакие недели на свете не в силах повлиять на такую любовь, как моя?
— И в то же время посоветуйтесь с мисс Тротвуд или какой-нибудь другой особой с жизненным опытом, — добавил мистер Спенлоу, поправляя обеими руками галстук. — Да, мистер Копперфильд, подумайте хорошенько с недельку!
Сказав мистеру Спенлоу, что подчиняюсь его требованиям, я вышел из комнаты, изображая, насколько мог, на своем лице глубокую скорбь вместе с непоколебимой решимостью. Мисс Мордстон проводила меня до дверей своими злобными маленькими глазками, едва видневшимися из-под густых, нависших бровей. И вид у нее был совершенно такой же, как в дни моего детства в нашем блондерстонском доме, когда в ее присутствии я отвечал матушке свой урок. Пожалуй, на мгновение я даже мог бы вообразить, что тяжесть, навалившаяся на мою душу, не что иное, как несносная азбука с ее овальными картинками, которые мне, ребенку, казались стеклами, выпавшими из очков.
Придя в контору, я уселся в своем уголке и, склонившись на руки, чтобы не видеть ни старика Тиффи, ни других служащих, глубоко задумался о землетрясении, так неожиданно все всколыхнувшем.
Читать дальше