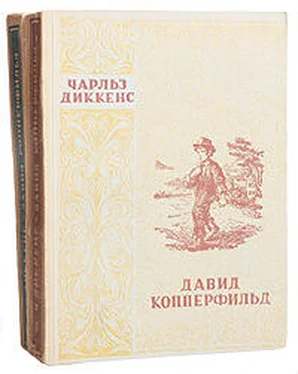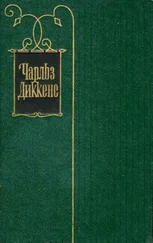Когда я нагнулся к ней, она, чтобы удержать меня поближе к себе, поставила ко мне на колено свой стакан.
— Ах, Трот, Трот! И вы воображаете, что влюблены?
— Как воображаю, бабушка! — воскликнул я, покраснев, как вареный рак. — Да я ее просто обожаю!
— Обожаете Дору и, наверно, считаете эту девочку обворожительной, не так ли? — спросила бабушка.
— Бабушка, дорогая, да никто не может даже себе представить, насколько она хороша!
— И она не глупа?
— Глупа?! Что вы, бабушка! — воскликнул я.
По правде сказать, мысль, умна ли моя Дора, никогда не приходила мне в голову. Предположение, что она может быть глупа, конечно, обидело меня, но все-таки мысль эта, как нечто новое, запала в мою голову.
— И она не легкомысленна? — продолжала допрашивать бабушка.
— Легкомысленна, бабушка?! — с таким же чувством обиды воскликнул я.
— Ну, хорошо, хорошо, — проговорила бабушка, — я только так спросила и вовсе не хочу умалять ее достоинств. Бедные дети! Вы, значит, действительно думаете, что созданы друг для друга и мечтаете прожить свою жизнь также сладко, как две сахарные фигурки на свадебном пироге, — не так ли, Трот?
Она спросила это так мило, полушутливо, полугрустно, что я совсем был растроган.
— Я прекрасно знаю, бабушка, — ответил я, — что мы оба очень молоды, неопытны и что в наших мыслях и речах много глупого и ребяческого, но мы несомненно любим друг друга искренне и по-настоящему. Допустим на минуту, что Дора может когда-нибудь полюбить кого-нибудь другого, или перестанет любить меня, или то же самое может случиться со мной, — я не представляю даже, что бы это было, — наверно я сошел бы с ума.
— Ах, Трот! — промолвила бабушка с задумчивой улыбкой, качая головой. — Как не сказать, что вы слепы, слепы, слепы… Я кого-то знаю, Трот, — заговорила после некоторого, молчания бабушка, — кто, будучи очень мягкого характера, отличается слишком: пылкими чувствами, напоминая этим бедную крошку — свою маму. И вот человек этот должен искать себе прочную, верную опору в существе серьезном, искреннем и постоянном.
— Если бы вы знали, бабушка, как серьезна Дора! — воскликнул я.
— Ах, Трот, вы слепы, слепы! — повторила бабушка.
И тут, не понимая почему, я вдруг почувствовал, как словно туча заволокла для меня возможность какого-то счастья…
— Но все-таки, — продолжала бабушка, — я вовсе не хочу вооружать два юных существа друг против друга, делать их несчастными, и хотя это детская любовь, а она очень часто, — заметьте, я не говорю «всегда», — оканчивается ничем, но мы будем относиться к любви этой серьезно и надеяться на счастливый конец. А времени впереди у нас достаточно.
В этих словах, конечно, было не много утешительного для такого восторженного влюбленного, как я, но я был рад уж и тому, что бабушка знает мою тайну. Я горячо благодарил ее за это новое доказательство любви ко мне и вообще за все, что она для меня сделала в жизни, после чего бабушка, нежно простившись со мной и захватив свой чепец, отправилась в мою спальню.
Каким несчастным почувствовал я себя, улегшись в постель! С какой болью в душе я думал и думал о том, что в глазах мистера Спенлоу я теперь бедняк! Как мучила меня мысль, что я уж не тот, кем считал себя, что рыцарский долг требует, чтобы я сообщил Доре о перемене моего положения и предоставил ей взять обратно свое слово, пожелай она этого. Я спрашивал себя с тревогой, на что я буду жить, готовясь в прокторы, не получая в конторе «Спенлоу и Джоркинс» никакого жалованья, как смогу я содержать бабушку. Над всем этим ломал я себе голову и не находил выхода. Потом рисовалась мне бедность: в кармане ни гроша, сюртук мой изношен, я не могу уже больше гарцоватъ на сером красавце-коне, не могу уже больше делать подношений Доре, не могу больше блистать… И хотя я прекрасно сознавал, что печалиться так о себе эгоистично, неблагородно, и сознание это терзало меня, но я слишком любил Дору и не мог ничего с собой поделать. Я сознавал, что печалиться о себе больше, чем о бабушке, низко, но это эгоистичное чувство было связано с Дорой, и ни для кого в мире я не мог пожертвовать ею. Ах! Каким несчастным чувствовал я себя в эту ночь!
Кажется, я еще не уснул, а мне уж начала сниться бедность во всех ее видах: вот я в лохмотьях и стараюсь продать Доре полпачки спичек за полпенни; а вот я в конторе в одной ночной сорочке и сапогах, и мистер Спенлоу сурово выговаривает мне, как осмеливаюсь я появляться в таком легкомысленном костюме перед клиентами. Тут же в конторе я с жадностью подбираю крошки, падающие с сухаря, который ежедневно съедает старик Тиффи, когда на колокольне св. Павла бьет час. А вот я добиваюсь получить из «Докторской общины» разрешение на брак с Дорой, у меня нет ни гроша, и я предлагаю в уплату одну из перчаток Уриа Гиппа, но вся «Докторская община» с негодованием отказывается принять перчатку…
Читать дальше