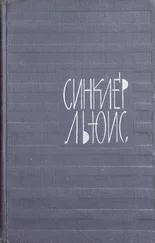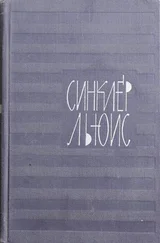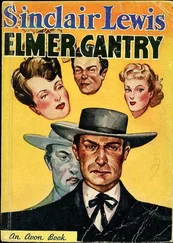— И ты в самом деле хотела бы, чтоб я отказался от своей работы?..
Он видел ясно, что при всем своем желании помочь ему — она никогда не понимала его устремлений, не понимала ни слова, когда он толковал ей, что директорство убило Готлиба.
Он молчал, а она, уже подъезжая к дому, сказала только:
— Ты знаешь, я очень не склонна говорить о деньгах, но ты сам часто заводил речь о том, как оскорбительно для твоей гордости зависеть от меня. А ты же знаешь, когда ты станешь директором, твой оклад настолько повысится, что… Прости меня!
Она, опередив его, скрылась в своем дворце, скользнула в автоматический лифт.
Мартин медленно поднимался по лестнице, бурча:
— Да, сэр, вам в первый раз представляется возможность нести вашу долю расходов по этому дому. Понятно! Вы охотно принимаете деньги вашей супруги и не желаете ничем отплатить, — и это у вас называется «преданностью науке». Так! Я должен решить теперь же…
Он не мучился над решением: он принял его сразу. Он прошел в комнату Джойс, раздражавшую снобизмом сдержанных полутонов. Его поразил несчастный вид, с каким она сидела в раздумье на краю тахты, но он бросил смело:
— Я на это не пойду, даже если мне придется расстаться с институтом, — а Холаберд не постесняется меня выставить. Я не позволю похоронить себя в помпезной чепухе подписыванья приказов и…
— Март! Стой! Разве ты не хочешь, чтобы твой сын гордился тобой?
— Гм. Так… Нет, не хочу, если он должен гордиться мной, когда я стану крахмальной манишкой, зазывалой в балагане…
— Прошу, не будь груб.
— Почему не быть? Если на то пошло — последнее время я был недостаточно груб. Мне следовало бы теперь же поехать прямо к Терри в «Скворечник» и работать…
— Как жаль мне, что я не могу тебе доказать… Ах, для «ученого» у тебя невероятно плохое зрение — сплошная «слепая точка»! Если б только ты видел, что все это говорит о слабости и пустоте… Уединение! Опрощение!. Старые доводы. Нелепая и малодушная фантазия усталых умников, которые удаляются в какую-нибудь «колонию посвященных», воображая, будто набираются сил, чтобы завоевать мир, тогда как на деле просто бегут от жизни.
— Неверно. Терри обосновался в деревне только потому, что там жизнь дешевле. Если бы нам… если бы ему позволяли средства, он, вероятно, завел бы лабораторию здесь, в городе, с гарсонами и со всеми онерами, как у Мак-Герка, только, черт побери, без директора Холаберда и без директора Эроусмита!
— Зато с невоспитанным, грубым, до крайности эгоистичным директором Терри Уикетом!
— Фу, черт! Позволь мне тебе сказать…
— Мартин, тебе обязательно нужно для усиления доводов вставлять в каждую фразу «черта»? Других выражений не найдется в твоем высоконаучном словаре?
— Моего словаря во всяком случае достаточно для выражения мысли, что я намерен поселиться с Терри.
— Слушай, Март. Ты считаешь верхом доблести желание уйти в глушь и носить фланелевую рубашку и кичиться своим чудачеством и безупречной чистотой. Но что, если бы каждый рассуждал так? Что, если бы каждый отец бросал своих детей, как только ему делается скверно на душе? Что творилось бы в мире? Что, если бы мы были бедны, и ты меня бросил бы, и я должна была бы стирать белье, чтобы прокормить Джона?
— Было бы, верно, неплохо для тебя и скверно для белья! Нет! Извини меня. Это дешевая шутка. Но… я думаю, именно это соображение испокон веков не давало большинству людей стать чем-либо иным, кроме как машиной для пищеварения, размножения и повиновения. Ответить надо вот как: очень немногие при каких бы то ни было обстоятельствах добровольно променяют мягкую постель на нары в лачуге только ради того, чтобы сохранить свою чистоту — как ты совершенно правильно это назвала. Мы с Терри — пионеры… Но этот спор может длиться вечность! Можно доказывать, что я герой, дурак, дезертир — что угодно, но факт остается фактом: я вдруг увидел, что должен уйти. Для моей работы мне нужна свобода, и с этого часа я бросаю ныть о ней, я ее беру. Ты была ко мне великодушна. Я благодарен. Но ты никогда не была моей. Прощай!
— Милый, милый… Мы обсудим это еще раз утром, когда ты не будешь так возбужден… А час назад я так тобой гордилась!
— Очень хорошо. Спокойной ночи.
Но до наступления утра, взяв два чемодана и саквояж с самым грубым своим платьем, оставив Джойс нежную записку — самое жестокое, что он писал в своей жизни, — поцеловав сына и прошептав: «Как вырастешь, приходи ко мне, малыш!» — он переехал в дешевую гостиницу. Когда он растянулся на шаткой железной кровати, ему стало жаль их любви. А до полудня он побывал в институте, подал прошение об отставке, забрал кое-какие приборы, принадлежавшие лично ему, свои записи, книги и материалы, отказался подойти к телефону на вызов Джойс и как раз поспел на вермонтский поезд.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу