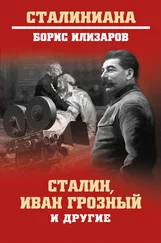— Ты откудова, спросят, пришел?
— Из Югославии.
— Как? — спросят — воевал?
— Нет, просто так… жил!
— А как же. — с Дону бежал?
— Да.
— Не умер в станице своей родной?
— Нет, там не умер. Отвернуться и пойдут они от меня прочь Где же покой? Покой где? Нет его здесь, не будет его и на том свете.
Слабеет мой глаз. Все хуже и хуже я им вижу. Виной этому, наверное, печь. Жара от ней — ужас!
И так меня тянет куда нибудь подальше, что сил моих уже больше нет. Как говорится у нас „работа зубы показала".
Весна в этом году пришла неожиданно, теплая такая, ласковая. Хорошая. Как раз во время пришла, чтобы людишки малость оттаяли, от холодов чудок отошли.
Улучу часочек свободный, подмигну Петухою, и пойдем мы с ним в поле, прочь от города. Выйдем, — идем по рыхлой уже влажной земле, дышем полной грудью, как кузнечными мехами.
Вот и травка кой-какая пробивается. Пробуждается природа от зимнего сна. Посмотрю на станичника Петухоя: нос у него не нос — труба.
— Землей пахнет, — скажет он мне.
— Чую, станица, ох, чую.
— Дон-то разлился, поди?
— Да, разлился наш батюшка, — Тихий Дон Иванович.
— В Старочеркасском на лодках теперь разъезжают.
— Разъезжают.
— Снарядить бы нам кораблик, да поплысть бы по воде до Азовского этого моря, а потом до своей станицы бы доехать, да сюзьмы бы полопать.
— Сюзьмы?… Ох, чую, говорю, ее запах-аромат.
И так-то вот, мы с Петухоем до того размечтаемся, раздразнимся, что идем все дальше и дальше, на город и не оглядываемся. И кажется нам, что будто мы и не заграницей вовсе, в эмиграции, а дома, по своей степи разгуливаем. Как будто вышли за левады и идем.
А вот іМихаил Александрович совсем, можно сказать, серьезно, меня спрашивает:
— А сколько, Евграфыч, до гаморкинского хутора осталось?
— А вот, говорю, сюда. Рукой подать.
Бредим наяву.
— А как ты думаешь, сперва зайдем к нему, а потом к тебе?
— Ты заходи, а я к Прасковье сбегаю, распоряжусь, да за вами и зайду, — уж у меня хлеба-соли отведаете!
— А дома он сейчас?
— Гаморкин? Дома! Где ему быть-то? Жизнь у нас мирная. Войн, слава Богу, никаких нет!
И начнем мы друг дружку перебивать, описывая, что он делает, что Настасья Петровна, как Нюнька и как Фомка. Ревет или нет? И нос цел у него, или опять на речке в кровь разбил? И как Ротыч, и как дедушка Панкрат, что когда слушает, руку трубкой к уху приставляет, и как всё лежит и где стоит? Ху-у-у! Ну, чисто умопомешанные!
— Довольно, — остановится Петухой, — этак мы с тобой с ума спятим!
— Да и спятим.
— Давай лучше припоминать что.
— Давай.
— Не разсказывал я тебе, как Гаморкин в С. С. С. Р. когда мы были, самым богатым человеком две недели был?
— Нет. Да что ты? Что-ж не расскажешь-то, Расскажи, обязательно, расскажи!
— Ну, так слушай. Подробно распишу. Значит, везут нас в эшалоне с Донской земли на Западный фронт. А Гаморкин, когда был захвачен в Новоросейском, попал при расчете в пулеметную команду при дивизионе. Собственно, у него было две должности: дивизионного каптенармуса и пулеметного писаря. Едут они в одном вагоне — начальник пулеметной команды, начпульком, по болшевицки, помощник его, и третий с ними — Иван Ильич. Дверцы их теплушки отворены в разные стороны, на полу люисы на треногах стоят. Как понимаешь, — едут всего три человека на всю теплушку.
А нас? И кони и люди — понапхато. И спустилась над нашим ползущим эшалоном ночь. Улеглись мы спать. Казаки посередке, как известно, тут же за доской, свешивая над ними головы, шумно дышут кони, бьют копытами в досчатый пол, — застоялись. Изредка кто прикрикнет на четвероногого задиру сонным голосом.
— Кыш, черт! Стаи, сатана!
Я киваю головой. Вот они картины-то. Будто все это вчера было: вагон… кони… фырканье… храп… ночная темь… и прочие такое. И колесы: тук-так, тук-так!
— И опять тишина, — продолжает Петухой, — прерываемая, только стуком колес, хрустом сена, храпом спящих, вздохами подрагивающих кожей и дремлющих, коней. Конь
— стоя, казак — вверх пузом, или крендельком с папахой под щекою. Спит Начпульком, спит и помощник, спит и дивизионный каптенармус и пулеметный писарь Гаморкин, Двадцать Первой Советской Дивизии.
Он мне рассказывал какие ему в ту ночь сны виделись.
— Вижу я кошку о шести хвостах и о трех головах. Одна голова в фате, другая в короне, а третья в папахе. Корона видать-то тяжелая, вся в золоте и в самоцветных каменьях. И все эти три головы мне низко кланяются, шестью хвостами виляют и спрашивают: „Спишь ли ты крепко, Ильич, или при-дремываешь, храпом сон подзываешь? Спишь ли ты, казак Гаморкин? Встал бы ты да помог бы нам".
Читать дальше