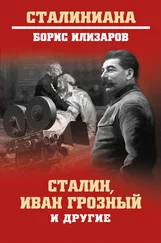Кинулись к нему казаки, обрадовались новому человеку.
— Вот, говорят, рассуди нас, странник степной. Нет у нас в Атаманы человека подходящего. А должон он быть:
храбер, как орел,
жесток, как коршун,
быстер, как олень,
умен, как никто из нас, так умен, што-б ум казачий наружу даже выступал и сзади на десять верст волочился. Во-о, какой должон быть казак.
Кивает старичек головой, усмехается. Доел рыбку, вытер седые усы, расправил бороду, да и говорит:
— Вижу, со степи к вам казак прийдет, так у него от ума на голове трава растет, — его и выбираите.
Сказал и исчез".
Тут Нюнька, догадавшись о конце сказки, в ладоши захлопала.
— Ну, слушай, слушай — сказал Иван Ильич.
„Сказал старичек и исчез. Будто его и не было вовсе. Подивились казаки — был старичек и нет его. Валяется лишь на дороге тараний хвост и голова в пыли. Што за диво чудное такое? Стоят и думают. Может посмеялся над ними старик.
Ан смотрят — входит в ворота конь, на коне казак спящий, на казаке — папаха, а в папахе — лопух.
Сняли Тараску с седла, не успел казак и глаз протереть. Дали ему в руки булаву Атаманскую — Войсковую, а она, как солнце; одели шапку меховую, а она, — што наша хуторская колокольня.
А когда осенью пришел Никодим и привел свой отряд, то стал всем казакам говорить:
— Всех привел, а один сбежал у меня, предатель. Ровно тума, а не природный казак. Скажу Атаману — пушшай на него пеню Войсковую наложить, а уж ежели я пымаю — так прошшай его чуб расчудесный.
Говорит, а Тараска за его спиной стоит, притаившись. Потом положил Никодиму руку на левое плечо, повернул к себе лицом — тот аж зажмурился. Да как-жаш — стоит Тарас и держит булаву Войсковую.
Упал Никодим на колени, котлом-головой в ноги кланяется, прощенья просит.
— Прости, батька-Атаман.
— Бог простит, а уж казак Дону не изменшшик.
И перед походом играли казаки песни, скакали и штуки разные на конях выделывали, и стрелы в синие небеса запускали, казачка плясали.
Никодим себе на ус наступил и трубку свою разбил.
Уж гуляли казаки, потешалися, силой молодецкой похвалялися, и я с ними хвалился, пока не напился и в ковыль не свалился".
— Ну-уж табе подай только, — сказала смеясь Петровна, сразу разрушив наше сказочное настроение. Сказка была окончена. Все встали и стали желать друг другу спокойной ночи, потом мы с Васильевной пошли до-дому.
Начал я хорошо свои воспоминания, а вот как их кончу, не знаю и когда — тоже. А может я и не с того вовсе начал? Может надо было начать с данного момента, да и углубиться потом в интересную жизнь Гаморкина, богатую разнообразнейшими событиями, углубиться, да и кончить на его рождении, кончить в тот самый момент, когда при его появлении на белый свет, отец Ивана Ильича забил свою трухменку на затылок и выразил свое удивление в недвусмысленном восклицании:
— Што за гусь родился, Царица Небесная!?
Под „гусем" можно подразумевать новорожденного.
Иван Ильич родился, конечно-же, в рубашке. В этой рубашке, как он сам рассказывает, он ходил до восьмого года, пока, купаясь в Дону, не повесил ее на кусты, — тут-кто-то ее и скрал.
— Но счастье мое, — уверял Иван Ильич, — осталось со мной. А рубашка? — шут с ней. Старенькая, все равно, стала, во многих местах прохудилась. Да и шутка сказать — восемь лет носил. Рукав у ней один был оторван, и вырос я из ней порядочно. Первое чувство при рождении меня охватившее, была злость на окружающих и на то, што чья-то рука, меня, Ивана Ильича Гаморкина, долго и упорно шлепала.
— Не кричит, — возмущалась бабка, и для чего-то полезла мне в рот пальцами.
От пальцев пахло огурцами и таранкой.
Отец же ходил из угла в угол и говорил:
— Пошлепай ешшо!
И меня шлепали и подбрасывали, но я, стиснув зубы, молчал и голосу своего подавать не хотел. Не хотел вступать в разговоры. Во-первых, как я сказал — я был недоволен. Чем? — а всем. Мне не нравились и полумрак в курене и охаюшшая маманька, и па-панька в черевиках на босу ногу, в залатанных синих, с красными полосами по бокам, штанах, и бабка повивальная, бьюшшая меня неустанно по одному и тому же месту, а, во-вторых, я не знал — зачем я вообще родился на сей грешный свет?
И вдруг я почувствовал значительное облегчение.
Рука, меня шлепавшая, мгновенно отдернулась.
Бабка вскрикнула:
— Паршивец!
Папанька покатился со смеху и сказал:
— Ну, усе в порядке…
Мать, как и следует больной, поморшшилась и застонала громче.
Да, вот именно, — начало ли это моих „заметок", или конец? А может мне как раз нужно было зрелый возраст Ивана Ильича захватить, тем более, что при рождении я-то не присутствовал, еще и на свете меня не было, да и встретились мы с Гаморкиным, когда мне было шестнадцать лет, — тогда меня из Духовного Училища выперли за чрезмерную любовь мою к вину и к военным подвигам Как странно. Как казаку, мне удивительно трудно было туда попасть, и как потом принадлежность к Казачьему народу, помогла мне вылететь из школы с быстротой и легкостью невероятной.
Читать дальше