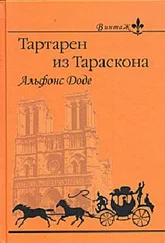Однажды около девяти часов вечера, когда молодой человек поднялся с места, собираясь откланяться, г-н Жуайез попросил оказать ему честь и выпить чашку чаю в кругу его семьи, как это было принято у них еще со времен бедной г-жи Жуайез, урожденной Сент-Аман, принимавшей некогда своих друзей по четвергам. С тех пор как она умерла и их материальное положение изменилось, они растеряли друзей, но все же сохранили свои скромные еженедельные приемы. Поль принял приглашение, и старик, приоткрыв дверь, крикнул:
— Бабуся!..
В коридоре послышались легкие шаги, и вслед за тем показалось личико двадцатилетней девушки, обрамленное густыми, пышными темными волосами. Де Жери в изумлении взглянул на г-на Жуайеза.
— Это и есть Бабуся?
— Да, мы так ее прозвали, когда она была еще маленькая. В чепце, обшитом рюшами, с авторитетным видом старшей она очень забавляла нас своей рассудительностью… Мы находили, что она очень похожа на свою бабушку. Так и утвердилось за ней это прозвище.
Тон славного старика давал понять, что в присвоении старушечьего имени очаровательному молодому существу он не находил ничего противоестественного. Все в доме придерживались того же мнения. Девицы Жуайез, подбежавшие к отцу и сгруппировавшиеся вокруг него, почти как на витрине у входных дверей, и старая служанка, поставившая на стол в гостиной, куда все перешли, великолепный чайный сервиз — последние остатки былой роскоши, — все называли девушку Бабусей, а та ни разу не выразила неудовольствия, словно из-за этого благословенного имени любовь всех ее близких приобретала известную почтительность, которая льстила ей и придавала ее высокому авторитету особый оттенок покровительственной нежности.
Потому ли, что со словом «бабуся» у него был связан дорогой образ, к которому он с малых лет относился с благоговением и любовью, но только де Жери почувствовал к этой девушке невыразимое влечение. Это чувство не походило на внезапный удар в самое сердце, нанесенный ему той, другой, на душевное смятение, при котором желание убежать, спастись от чар сливается с неизменной грустью, испытываемой наутро после бала, когда люстры погашены, звуки музыки смолкли и аромат цветов испарился в ночи. Глядя на эту девушку, которая с заботливостью доброй хозяйки, стоя, наблюдала за семейным столом, окидывая своих «детей», своих «внучат» взглядом, преисполненным деятельной любви, у него явился соблазн узнать ее поближе, стать ее другом, ее старым другом, поверить ей то, в чем он признавался только самому себе. И когда она протянула ему чашку чаю без светского жеманства и салонных любезностей, ему захотелось сказать ей, как говорили остальные: «Благодарю вас. Бабуся» — и вложить в эти слова всю свою душу.
Вдруг раздался непринужденный, громкий стук, заставивший всех встрепенуться.
— А вот и господин Андре… Элиза! Налей ему чашку чаю. Яйя, печенье!..
Между тем мадемуазель Анриетта, третья девица Жуайез, унаследовавшая от матери, урожденной де Сент-Аман, влечение к светскости, по случаю прихода гостей бросилась зажигать две свечи у фортепьяно.
— Пятое действие закончено!.. — крикнул с порога новый гость, но тут же смолк. — Ах, извините!..
Он явно смутился при виде незнакомца. Г-н Жуайез представил молодых людей друг другу.
— Господин Поль де Жери, господин Андре Маранн, — произнес он не без некоторой торжественности.
Он вспомнил былые приемы, которые устраивала его жена. Вазы на камине, две большие лампы, шкафчик с безделушками, кресла, поставленные кружком, казалось, разделяли его иллюзию: они словно помолодели и заблистали при таком необычном наплыве гостей.
— Итак, ваша пьеса окончена?
— Окончена, господин Жуайез, мне бы хотелось прочитать ее вам в один из ближайших вечеров.
— Непременно, господин Андре, непременно! — хором ответили девушки.
Сосед работал над пьесой, и его добрые друзья не сомневались в его успехе. А вот фотография не сулила больших доходов. Клиенты появлялись крайне редко, прохожих фотография совсем не привлекала. Для практики и чтобы новенький аппарат не стоял слишком долго без дела, Андре Маранн каждое воскресенье снимал своих друзей, которые с безграничным терпением отдавали себя в его распоряжение. Благополучие новой пригородной фотографии было вопросом самолюбия для всех, пробуждавшим даже в девушках трогательное чувство братства, которое сближает бедняков, заставляет их жаться друг к другу, как жмутся воробьи на кровле. Впрочем, Андре, высокий лоб которого скрывал неисчерпаемый запас иллюзий, без всякой горечи объяснял равнодушие публики: то время года неблагоприятное, то все жалуются на застой в делах — и всякий раз заканчивал одним и тем же утешительным припевом:
Читать дальше