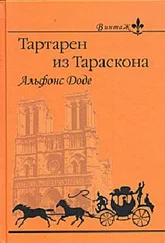— Меня это очень огорчило!.. Я так на это рассчитывал!
Не успел он произнести эти слова, как дверь распахнулась и влетел запыхавшийся, взволнованный Дженкинс.
— Это — безобразие! — бормотал он. — Невероятное безобразие! Этого не должно быть, этого не будет!
Язык у него заплетался, он торопился все высказать сразу, потом, отказавшись от попытки найти подходящие слова, бросил на стол коробочку из шагреневой кожи и большой конверт, на которых стояла печать императорской канцелярии.
— Вот мой орден и диплом… Они принадлежат вам, мой друг… Я не имею права на них.
В сущности, этот жест ровно ничего не значил. Если бы Жансуле вздумал украсить свою петлицу, орденской лентой, его привлекли бы к судебной ответственности за незаконное ношение знаков отличия. Но не всегда можно требовать логики от эффектной театральной сцены, которая в данном случае привела к сердечным излияниям, объятиям, к борьбе великодушия, после чего Дженкинс положил орден и диплом к себе в карман, говоря, что будет протестовать в газетах… Набобу снова пришлось его удерживать:
— Ни в коем случае, безрассудный вы человек!.. Это может мне повредить в дальнейшем… Кто знает, а вдруг пятнадцатого августа…
— О, что касается этого!.. — воскликнул Дженкинс, ухватившись за эту мысль, и, воздев руки к небу, как на картине Давида «Клятва», [28] На картине Давида «Клятва Горациев» (1784–1785) изображены три юных римских воина, поднявших руки к мечам, которые передает им отец.
торжественно заявил: — Я даю священную клятву…
На этом дело и кончилось. За завтраком Жансуле ни словом не обмолвился о декрете и был весел, как всегда. Хорошее расположение духа не изменяло ему в течение целого дня. А де Жери, которому происшедшая сцена раскрыла самую сущность Дженкинса, а также причину насмешек Фелиции Рюис, ее еле сдерживаемый гнев, когда она заговаривала о докторе, тщетно спрашивал себя, каким образом он мог бы разъяснить своему патрону всю глубину лицемерия ирландца. А между тем ему следовало бы знать, что южане, люди восторженные, с душой нараспашку, даже в пылу увлечения не бывают полностью ослеплены, что они никогда не теряют здравого смысла. Вечером Набоб раскрыл свою потрепанную записную книжку с надорванными уголками, где он в продолжение десяти лет отмечал свои миллионные операции, записывая лишь ему одному понятными иероглифами барыши и расходы. Он на несколько минут углубился в подсчеты, потом, повернувшись к де Жери, спросил:
— Знаете, дорогой Поль, чем я сейчас занимался?
— Нет, не знаю, господин Жансуле.
— Я только что подсчитал, — взгляд, искрившийся лукавством, типичный для южанина, словно подсмеивался над его же собственной добродушной улыбкой, — я подсчитал, что награждение Дженкинса орденом обошлось мне в четыреста тридцать тысяч франков.
Четыреста тридцать тысяч франков! И это еще не конец…
Три раза в неделю, как только наступал вечер, Поль де Жери отправлялся на урок счетоводства к г-ну Жуайезу. Занятия происходили в столовой, смежной с маленькой гостиной, где он увидел всю семью, когда впервые пришел сюда. Вот почему, знакомясь с тайнами дебета и кредита и не отрывая глаз от своего учителя в белом галстуке, он все же помимо своей воли прислушивался к доносившемуся из-за двери легкому жужжанию трудолюбивого улья, сожалея о том, что не видит прелестных головок, склонившихся под лампой. Г-н Жуайез никогда ни единым словом не упоминал о дочерях. Так же ревниво оберегая своих милых «барышень», как дракон охраняет заключенных в башню прекрасных принцесс, под влиянием чрезмерной отцовской любви рисуя себе самые фантастические картины, г-н Жуайез настолько сухо отвечал на расспросы своего ученика, осведомлявшегося о молодых особах, что Поль де Жери перестал заговаривать о них. Он только удивлялся, что ни разу не встретил Бабуси, о которой г-н Жуайез упоминал при всяком удобном случае, по поводу малейшего события в их семье, Бабуси, которая витала над всем домом как олицетворение царившего в нем порядка и покоя.
Такая необщительность со стороны почтенной дамы, которая, конечно, давно вышла из того возраста, когда можно опасаться излишней предприимчивости молодых людей, казалась ему чрезмерной. Что же касается уроков, то ими он был вполне удовлетворен: объяснения отличались ясностью, наглядный метод, применяемый преподавателем, ему нравился. Правда, у г-на Жуайеза был один недостаток: порой он погружался в раздумье, прерываемое неожиданными восклицаниями и междометиями, вылетавшими, как ракеты. В остальном это был отличный педагог, умный, терпеливый и добросовестный. Поль привыкал разбираться в сложном лабиринте бухгалтерских записей и решил, что должен втим удовольствоваться, не стремясь к большему.
Читать дальше