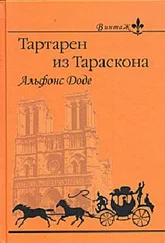— Продолжим наш осмотр, — предлагает на этот раз слегка смущенный Пондевез, — я знаю, в чем дело.
Он — то знает, в чем дело, но и р-н де Лаперьер тоже хочет знать, прежде чем Пондевез успел подойти, секретарь толкает массивную дверь, за которой звучит этот страшный концерт.
В грязной конуре, которой не коснулась уборка, так как показывать ее не собирались, на матрацах, брошенных на голый пол, лежали не то десять, не то двенадцать уродцев под охраной пустого стула с начатым вязаньем и кувшина с отбитым носиком, полным до краев глинтвейном, кипевшим на дымившейся печурке. Этих шелудивых, покрытых струпьями детишек, изгоев Вифлеемских яслей, запрятали в глубину отдаленной каморки, приказав «сухой кормилице» укачивать их, успокаивать, в случае необходимости даже сесть на них, лишь бы не дать им кричать, но деревенская женщина, глупая и любопытная, бросила своих питомцев, чтобы поглазеть на роскошную карету, стоявшую во дворе. Стоило ей отойти, как спеленутым младенцам надоело горизонтальное положение. Красные, покрытые сыпью детишки устроили этот оглушительный концерт: они не утратили сил — их спасала и питала сама болезнь. Беспомощные, барахтаясь, как опрокинутые на спину жуки, работая бедрами и локтями, одни из них валились набок и никак после этого не могли распрямиться, другие задирали свои окоченевшие спеленутые ножки. Все они замерли и смолкли, увидев, что раскрывается дверь, но трясущаяся бородка г-на де Лаперьера сразу успокоила, ободрила их, и они залились пуще прежнего. Среди все возраставшего шума с трудом можно было расслышать объяснения директора:
— Этих детей изолировали… Зараза… Накожные болезни…
Г-ну секретарю больше ничего не требуется. Проявив несравненно меньше мужества, чем Бонапарт при посещении чумного лазарета в Яффе, он бросается к дверям и, растерявшись от страха, хочет что-то сказать, но, не найдя подходящих слов, бормочет с натянутой улыбкой:
— Они о-чень ми-лы…
На этом осмотр закончился. Все собрались в гостиной нижнего этажа. Г-жа Польж распорядилась, чтобы туда подали закусить. В Вифлеемских яслях погреб набит бутылками с вином. Свежий воздух и ходьба по всем этажам возбудили у старичка из Тюильри такой аппетит, какого он давно уже не испытывал. Он болтает, смеется с чисто деревенской непринужденностью, а перед самым отъездом, когда все встают, поднимает, тряся головой, свой бокал за процветание «Ви-фле-ема!». Все растроганы, чокаются друг с другом. Потом гости садятся в карету, и она катит по длинной липовой аллее, за которой садится, не отбрасывая лучей, красное холодное солнце. После их отъезда в парке снова воцаряется зловещая тишина. Густые бесформенные тени скопляются в лесной поросли, забираются в дом, мало-помалу заполняют аллеи и площадку в парке. Вскоре все погружается во мрак. Блестят только буквы, полные иронии, над воротами, да там, в окне второго этажа, светится красная мерцающая восковая свеча, зажженная у изголовья маленького покойника.
«Декретом от 12 марта 1865 года доктор Дженкинс, основатель и председатель Вифлеемских яслей, по представлению министра внутренних дел награждается за свою самоотверженную деятельность по оказанию помощи ближним императорским орденом Почетного Легиона».
Прочтя эти строки на первой странице «Журналь офисьель» утром 16-го числа, бедный Набоб почувствовал головокружение.
Как же так?
Орден получил не он, а Дженкинс!
Он два раза перечел сообщение, не веря своим глазам. В ушах у него звенело. Буквы плясали, двоились, плавали в красных кругах, словно на ярком солнце. Он был так убежден, что увидит свое имя в газете; еще накануне Дженкинс с такой уверенностью сказал ему: «Все в порядке», — что ему все еще казалось, что его обманывает зрение. Но нет, в декрете стояло имя Дженкинса… Удар был сокрушительный, он поражал в самое сердце, он казался пророческим, как первое предостережение судьбы. Жансуле особенно болезненно воспринял его, потому что он уже много лет не испытывал неудач и считал, что он стоит выше обыкновенных смертных. Набоб был жестоко оскорблен в своих лучших чувствах.
— Что вы на это скажете?.. — обратился он к де Жери, когда тот, как обычно, вошел утром в его спальню и застал его сильно расстроенным, с газетой в руках. — Читали «Офисьель»? Меня там нет.
Он пытался улыбнуться, но черты его лица исказились, как у ребенка, с трудом удерживающего слезы. Затем с той откровенностью, которая многих к нему располагала, он сказал:
Читать дальше