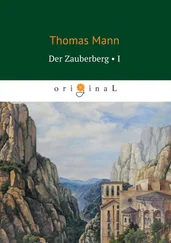«Вот вы лежите, – думал я (хотя, конечно, в ту пору еще не облекал свои мысли в столь точные слова), – лежите, окутанные сумраком подземелья, а в вашей утробе потихоньку зреет колючий золотистый сок, который со временем участит биение многих сердец, заставит просветлеть не одну пару глаз. Сейчас вы нагие, невзрачные, но придет день – и, великолепно разубранные, вы покинете подземный мир, чтобы на празднике, на свадьбе, в отдельном кабинете задорно выстрелить пробкой в потолок и вселить в захмелевших людей радостное безрассудство». Мальчиком я и вправду говорил что-то в этом роде и не без основания: фирма «Энгельберт Круль» придавала огромнейшее значение внешнему виду своих бутылок, то есть тому, что на языке виноделов называется «прической». Пробки, окрученные серебряной проволокой и позолоченными веревочками, были залиты красным лаком; мало того, сбоку на золотом шнуре болталась торжественная круглая печать, как на папских буллах или старинных имперских грамотах; горлышко щедро обертывалось станиолем, а ниже красовалась золотообрезанная этикетка, эскиз которой, по заказу фирмы, сделал крестный Шиммельпристер. На ней, кроме многочисленных гербов и звезд, вензеля моего отца и вытисненного золотыми буквами названия «Лорелея экстра кюве», была еще изображена женщина, всю одежду которой составляли браслеты и ожерелья. Закинув ногу на ногу, она сидела на утесе, держа гребень в высоко поднятой руке, и чесала свои золотые волосы. Надо сказать, что качество вина не вполне соответствовало этому блистательном оформлению.
– Круль, – говаривал отцу крестный Шиммельпристер, – я не хочу вас огорчать, но полиции следовало бы запретить ваше вино: неделю назад я соблазнился, раскупорил полбутылки, и вот мой организм еще и по сей час не оправился от этой авантюры. Скажите на милость, какую дрянь вы туда добавляете – керосин или сивуху? Короче говоря, вы отравитель. Бойтесь правосудия!
Мой бедный отец конфузился: он был слабый человек и пасовал перед резкой критикой.
– Вам легко насмешничать, Шиммельпристер, – отвечал он, по привычке поглаживая свое брюшко кончиками пальцев, – а мне надо выпускать дешевый товар. Очень уж у нас сильно предубеждение против отечественной продукции. Одним словом, я потчую людей тем, чего они от меня ждут. Вдобавок меня еще и конкуренция душит, я уж и так едва держусь. – Вот что обычно отвечал мой отец.
Мы жили в одной из тех очаровательных вилл, что во множестве лепятся по отлогим берегам Рейна и так красят прирейнский ландшафт. Сад наш, спускавшийся к реке, был щедро изукрашен гномами, грибами и прочими искусно сделанными из фаянса фигурками; среди них на постаменте покоился большой блестящий шар, уморительно искажавший лица. Кроме того, в саду имелись эолова арфа, несколько гротов и фонтан, струи которого мудрено сплетались в воздухе и ниспадали в бассейн, где резвились серебристые рыбки.
Внутри наш дом, в согласии со вкусом отца, был убран изящно и весело. Уютные ниши и эркеры так и манили к отдыху; в одном из них даже стояла настоящая прялка. На бесчисленных этажерках и плюшевых столиках каких только не было безделушек: стаканчики, раковины, полированные шкатулки, флакончики с ароматическими веществами; по диванам и кушеткам были разбросаны подушечки, пестро расшитые шелками, – отец любил понежиться; карнизы на окнах имели форму алебард; в дверных проемах висели легкие занавеси из тростника и разноцветных бисерных нитей – те, что на первый взгляд кажутся сплошной стеной, но при первом прикосновении расступаются с чуть слышным стуком и шелестом, чтобы тотчас вновь сомкнуться за вошедшим. В прихожей над входными дверями у нас имелось хитроумное устройство: покуда дверь, сдерживаемая особым пневматическим приспособлением, медленно закрывалась, оно тоненько выводило начало песни «Жизни возрадуйтесь!»
В этом доме в дождливый и теплый майский день – кстати сказать, в воскресенье – я появился на свет. Отныне я постараюсь не забегать вперед, а неукоснительно придерживаться хронологии. Рождение мое, если верить рассказам домашних, протекало медленно и даже не без искусственного вмешательства, к которому прибег тогдашний наш врач, доктор Мекум, главным образом потому, что я – если только я вправе так обозначать то далекое и вовсе чужое мне существо – вел себя очень бездеятельно и безучастно, почти не разделяя усилий матери и не выказывая ни малейшей охоты явиться в тот мир, который впоследствии мне суждено было столь страстно полюбить. Тем не менее я оказался здоровым, крепким ребенком, которому безусловно шло на пользу молоко заботливо выбранной кормилицы. Раздумывая над странной своей вялостью и явной неохотой сменить мрак материнского лона на дневной свет, я пришел к выводу, что все это стоит в прямой связи с моей удивительной сонливостью, я бы даже сказал – с даром сна, проявившимся у меня еще в младенчестве. Говорят, что ребенком я не был ни крикуном, ни непоседой, а, напротив, к вящему удовольствию моих нянек, очень любил поспать или, на худой конец, подремать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




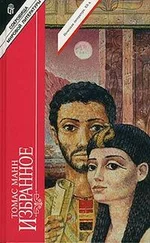
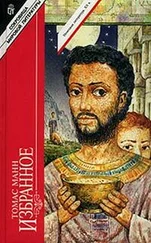



![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)