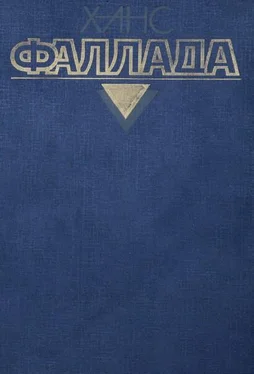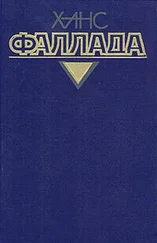А выбравшись, даже не позволяет себе стряхнуть снег с одежды. Сразу ставит ногу на выступ километрового столба и торопливо расшнуровывает ботинок. Ботинки у него добротные, с высокими непромокаемыми крагами, ноге в таком ботинке тепло и сухо. Он осторожненько засовывает плоский конверт с тысячными — к сожалению, их осталось всего три — в носок, щупает рукой, ладно ли конверт прилегает к ноге, и вновь надевает ботинок.
Потом выпрямляется и отхлебывает порядочный глоток коньяку из бутылки. Теперь он совсем успокоился и вновь обрел уверенность в себе. Им его не сцапать, ни тем, ни другим. Он хитрее их всех. Надо только пошевеливаться, им его теперь ни за что не догнать.
Он пускается в путь. Путь этот оказывается и труднее, чем ему думалось, и в то же время легче. Ни тех, ни других не видать, не слыхать, зато снегу намело столько, особенно против просек, что он проваливается в сугробы по самые подмышки. И с шоссе сбивается так часто, что в конце концов даже приспосабливается: как только земля уплывает у него из-под ног и он начинает соскальзывать в кювет, он рывком меняет курс на прежний и, как правило, тут же ощущает под ногами твердую землю.
Время от времени он обмахивает снег с километрового столба и светит фонариком на цифру. Продвигается он очень медленно. Больше трех километров в час не получается. Хорошо еще, что коньяк догадался захватить, но на утренний поезд в Кванце он все равно не поспеет. Первым делом надо будет снять номер в гостинице и спать, спать, спать!
Когда он отбрасывает прочь опорожненную бутылку, до Кванца остается четыре километра. Значит, раньше восьми туда не попасть. Последний отрезок пути он уже не идет, а падает всем телом вперед, едва успевая подставлять под себя ноги — несмотря на то, что шоссе под конец оказалось почти не заснеженным: за лесом боковой ветер сдул снежный покров.
Потом, уже в Кванце, он сидит на кровати в гостинице «Германский орел». В номере ледяной холод, только что растопленная печь дымит. Он то и дело засыпает и валится на бок, но чувствует, что надо бы раздеться, нельзя спать в насквозь промокшей одежде. Руки-ноги закоченели, он весь промерз до мозга костей.
Он стаскивает с ноги носок…
И тупо глядит, ничего не понимая и не двигаясь. Потом пытается пальцами нащупать то, чего глаза не видят. Они находят бумажную труху и жидкую кашицу почти без цвета и запаха — все, что осталось от бумажных ассигнаций, в течение восьми часов тершихся между влажной ногой и носком.
Три тысячи — его последние деньги, все, что осталось от похищенной суммы! Он бросается на кровать и лежит пластом, без всяких мыслей. Немного позже он велит принести в номер коньяк, а также горячий крюшон с гвоздикой и сахаром.
Три дня кряду он не встает с кровати и все время пьет без продыху, потом бумажник пустеет. Он поднимается и идет отдаваться в руки полиции, точнее, старшему жандарму Кванца, городишки с тремя тысячами жителей. Все кончено.
Это случилось пять с лишним лет тому назад. И снилось ему много-много ночей подряд, все первые месяцы после ареста: и бегство ночью через лес, и та минута, когда он достал из носка труху, оставшуюся от тысяч.
Это был жестокий удар, самое страшное из всего, что с ним случилось за жизнь. Этот удар навсегда сломил в нем чувство собственного достоинства, навсегда лишил его ощущения, что он тоже не лыком шит. Нет, он даже в жулики не годится. Никогда и никому не расскажет он об этом ударе, он всем говорил, что растранжирил все денежки, в том числе и эти последние три тысячи.
Впоследствии сон этот стал сниться ему все реже, но время от времени все же возвращался. Вот и сегодня ночью тоже. Этой ночью. Захотел жизнь начать сначала, старая цепь и зазвучала.
Но вот что странно: сон изменился самую малость, всего лишь одна ничтожная деталь была другой.
Он точно помнит: и сегодня ночью он поставил ногу на выступ дорожного столба, расшнуровал ботинок, снял его. Только… в носок он засунул не три тысячных билета, а один сотенный…
Тот самый!
2
Вилли Куфальт сидит, глубоко задумавшись. Рука его неуверенно тянется к носку. «Надо бы вернуть сотнягу мастеру. А я вот не могу, и все. Лучше порву».
Он явственно ощущает ту новую жизнь, которая вот-вот должна начаться. Она похожа на лунный свет, что льется в окно. «Ясное дело, — думает он. — Все здешнее надо оставить здесь».
Он сует руку в носок…
И тут же ее отдергивает. Вскакивает рывком и становится под окном по стойке «смирно», потому что в камеру входит главный надзиратель Руш.
Читать дальше