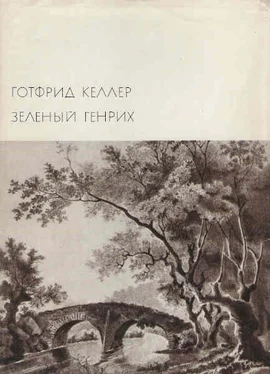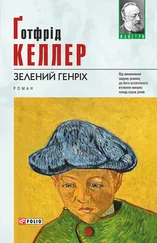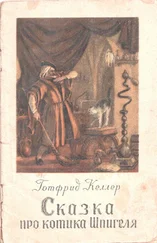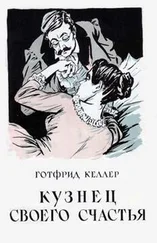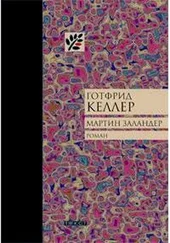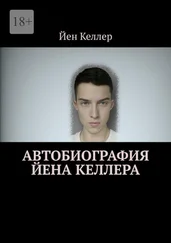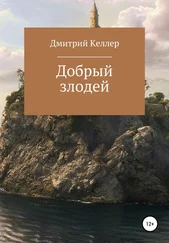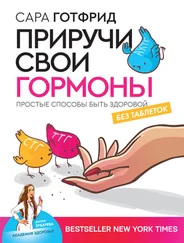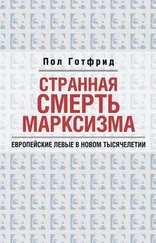Не останавливаясь на достигнутом, Келлер пошел дальше. Он пробовал силы в разных поэтических жанрах и с таким успехом, что еще до выхода в свет первого большого сборника стихотворений [7] Gedichte, Heidelberg, 1846. 340 S.
рецензент цюрихской газеты «Моргенблатт», в номере от 1 февраля 1845 года, назвал его «самым выдающимся лирическим талантом, когда-либо родившимся в Швейцарии». В этом отзыве не было большого преувеличения. Молодого поэта заметили и в Германии. Даже такой тонкий ценитель литературы, как Фарнгаген фон Энзе, писал о «подлинной поэзии Келлера», доставляющей истинную радость. Но самого Келлера неудержимо тянуло к прозе. К середине сороковых годов относятся первые наброски романа, а в 1847 году появилось заглавие — «Зеленый Генрих».
Европейские революционные события повлияли на личную судьбу Келлера и существенным образом отразились на содержании задуманного романа. Верный своим республиканским чувствам, швейцарский поэт встретил революцию с величайшим энтузиазмом.
В марте 1848 года он писал одному из друзей: «Грандиозно все происходящее: Вена, Берлин, Париж — позади и впереди; не хватает только Петербурга. Но как все несоизмеримо! Насколько обдуманно и спокойно, насколько объективно можем мы, бедные маленькие швейцарцы, созерцать этот спектакль с наших гор! Какой деликатной и политически утонченной была наша война с иезуитами во всех ее фазах и проявлениях по сравнению с этими действительно колоссальными потрясениями!»
В октябре того же года, получив стипендию от демократического правительства кантона Цюрих, Келлер едет учиться в Гейдельберг. Здесь он становится свидетелем Баденской революции (май 1849 г.) и ее жестокого подавления прусскими войсками, продолжает работать над романом и слушает публичные лекции Фейербаха «О сущности религии», заставившие его переоценить свои прежние взгляды и стать убежденным сторонником фейербаховского материализма и атеизма.
В домарксовский период развития общественной мысли философия Людвига Фейербаха, способствовавшая ликвидации в Германии господства идеализма, играла авангардистскую, в известном смысле даже революционную роль. Отказ Фейербаха от религии сопровождался гуманистическим требованием всестороннего развития личности и особой «этики любви», заменяющей веру в бога. Вместе с тем, как «материалист снизу, идеалист сверху» (Энгельс), Фейербах не сумел распространить свои материалистические взгляды на область истории и общественных отношений, и потому его материализм оставался «недостроенным», созерцательным, пассивным. Но при всей своей непоследовательности Фейербах, поднявший в условиях полуфеодальной Германии сороковых годов XIX века знамя философского материализма и атеизма, совершил исторический подвиг.
«Сам Фейербах, — писал Плеханов, — редко и лишь мимоходом касался искусства. Но его философия не осталась без весьма значительного влияния на литературу и на эстетику. Во-первых, его трезвое, чуждое всякого мистицизма, миросозерцание, в связи с ого радикализмом, содействовало освобождению передовых немецких художников «домартовской», то есть дореволюционной, эпохи от некоторых романтических представлений… В немецкой Швейцарии его учеником выступил знаменитый теперь Готфрид Келлер» [8] Г. В. Плеханов, От идеализма к материализму. — В кн.: «Избранные философские произведения», т. III. М. 1957, стр. 685.
.
Сравнительно быстрое усвоение Келлером материалистической философии и атеизма облегчалось тем, что христианский бог давно уже был для него не «всемирным монархом», а «своего рода президентом или первым консулом, не имеющим большого значения». Вместе с остатками веры в бога он теряет также веру в бессмертие души. Опасение, что жизнь от этого станет «прозаичной и низменной», сменяется уверенностью в том, что «отныне ни один художник не имеет будущности, если не захочет быть весь и полностью смертным человеком», ибо «для искусства и поэзии нет отныне спасения без полной духовной свободы и целостного пламенного восприятия природы, лишенного каких бы то ни было побочных и задних мыслей».
Окончательно осознав себя сторонником «определенного и энергичного мировоззрения», он формулирует в письме к швейцарскому композитору Баумгартнеру (от 27 мая 1871 г.) этические задачи, стоящие, по его мнению, перед человеком, для которого не существует веры в бога и бессмертие:
«Каким тривиальным кажется мне теперь мнение, будто с устранением так называемых религиозных идей из мира исчезает всякая поэзия, всякое возвышенное настроение! Наоборот! Мир стал для меня бесконечно прекраснее и глубже, жизнь — дороже и интенсивнее, смерть — серьезнее, многозначительнее, и только теперь требует от меня со всей властностью, чтобы я выполнил свою задачу, очистил и умиротворил свое сознание, так как у меня нет перспективы возместить упущенное в каком-либо ином уголке мироздания».
Читать дальше