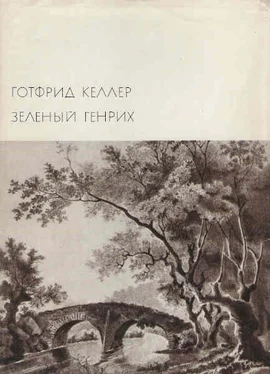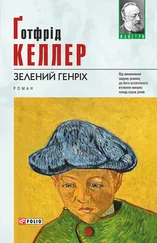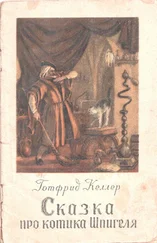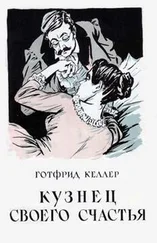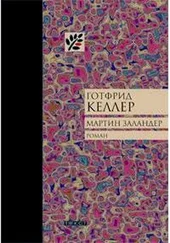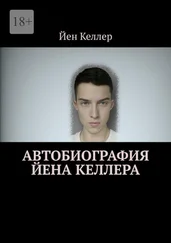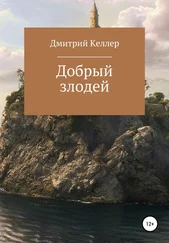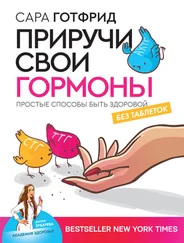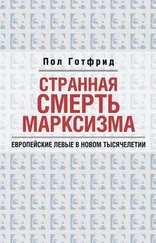Однако благополучный исход всех духовных и жизненных блужданий Зеленого Генриха задерживается обрушившимся на него несчастьем. После смерти матери он живет с отягченной совестью и считает себя не вправе критиковать чужие недостатки и вести борьбу с людьми, злоупотребляющими «властью большинства». Поэтому на государственной службе он становится не активным деятелем, а всего лишь «меланхоличным и немногословным чиновником». Свою позицию стороннего наблюдателя он оправдывает тем, что не сумел удержаться на высоте священных нравственных обязанностей человека и гражданина: «Я уничтожил непосредственный жизненный источник, который связывал меня с народом, и потому потерял право трудиться вместе с этим народом, согласно истине: «Кто хочет исправить мир, пусть сначала подметет мусор у своего дома». Трагическое сознание вины мешает Генриху «быть зеркалом своего народа» и работать на его благо в полную меру сил и способностей.
Независимо от своеобразного понимания Келлером этического долга, апология созерцательности, пассивного отношения к жизни, вытекает из «недостроенного» фейербаховского материализма; его философская система, в отличие от диалектического материализма Маркса и Энгельса, не предрешала обязательных практических действий, направленных на переустройство общества, и не стала знаменем определенной политической программы.
Этим в конечном счете и объясняется, почему Генрих, даже после того как Юдифь освобождает его от душевных мук и возвращает к деятельной жизни, не становится борцом за свои выстраданные убеждения.
Возвращение Юдифи придает финалу романа необходимое оптимистическое звучание. Она предстает перед Генрихом как живое олицетворение умиротворяющей природы. «Счастье молодости, родина, покой, все, казалось, вернулось ко мне вместе с Юдифью». «Стоило мне только услышать ее голос, и я сразу находил успокоение, словно я слышал голос самой природы». Юдифь помогает Генриху обрести душевное равновесие, гармоническое единство и с самим собой, и с окружающим миром. Он снова чувствует себя «частью целого», ощущает свое единство с народом. Правда, это «единство с народом» сводится в конце концов к тому, что мятущийся Генрих, пройдя через все этапы своего духовного созревания и перестав быть «зеленым», довольствуется скромной должностью кантонального чиновника. Но как бы то ни было, теперь он уже больше не «лишний». Он находит свое место в жизни, отдает свои силы и знания служению обществу.
И все же апофеоза не получилось. Такое воплощение гуманистического идеала выглядит по меньшей мере искусственным.
Когда Келлер в конце семидесятых годов заново писал заключительные главы романа, он уже не видел у себя на родине того «единства в свободе», которое считал отличительной особенностью швейцарской демократии. Вместе с разложением «почвенных» устоев в Швейцарии, как и в любой другой капиталистической стране, настолько углубились социальные контрасты и классовые противоречия, что Келлер вынужден был с горечью признать: «У нас — как везде, везде — как у нас» (роман «Мартин Заландер»).
Горечь разочарования наложила тени на жизнеутверждающий финал романа. Хотя Юдифь, пренебрегая церемонией брака, и остается до конца дней своих возле Генриха, но она «слишком много видела и пережила на этом свете, чтобы поверить полному и неомраченному счастью». А сам Генрих, с таким энтузиазмом встретивший начало борьбы за демократические преобразования, с течением времени убеждается, что она не привела к желаемым результатам, и его «идиллическое представление о политическом большинстве» тускнеет. Следовательно, практическая деятельность в такой узкой, непосредственной форме не может ему дать полного удовлетворения.
«Конечный вывод мудрости земной» сводится для фейербахианца Генриха Лее к радости самого бытия. В наслаждении жизнью и природой он видит высший смысл существования. Таков итог всех его испытаний и раздумий.
Несмотря на то, что заключительные главы и во втором варианте романа не соответствуют значительности всего замысла, «Зеленый Генрих» Готфрида Келлера — одно из тех блестящих произведений мировой литературы, которые всегда будут привлекать читателей богатством гуманистических идей, жизненных наблюдений и немеркнущих художественных образов.
Евг. БРАНДИС
Перевод с немецкого Ю. Афонькина.
Читать дальше