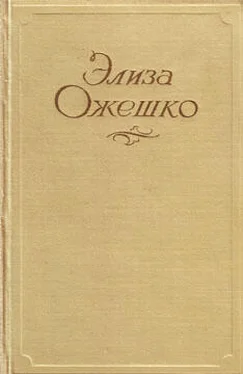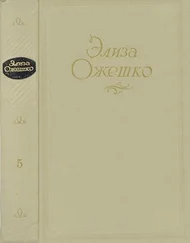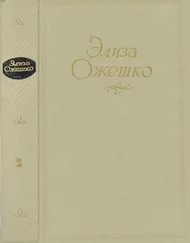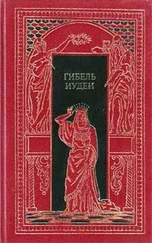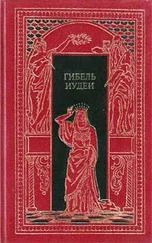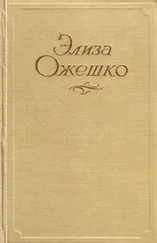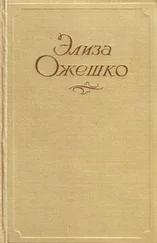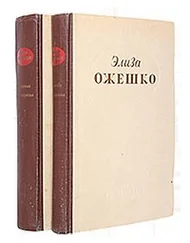Юлианка уходила. Покинув старый дом, она шла на тот конец двора, где хрипло бренчал старый рояль. Девочка подходила к маленькому низенькому окошку, затененному ветвями старой липы, и, приподнявшись на цыпочки, заглядывала в комнату; за разбитым роялем, покрытым потрескавшимся лаком, сидел очень худой человек с бледным удлиненным лицом. Его игру то и дело прерывал кашель. Когда-то этот пианист подавал надежды и выступал с концертами в разных странах; позже он сделался довольно известным преподавателем музыки, а когда заболел чахоткой, стал давать в городе несколько уроков в неделю, получая по злотому за урок. Он был еще не стар, но очень изнурен, и глаза его горели лихорадочным блеском. Музыкант по целым часам просиживал у старого рояля и играл, иногда пробовал петь, но ему мешал кашель, а звуки, выходившие из-под его длинных, костлявых пальцев, становились все глуше и глуше. Увидев в окне Юлианку, музыкант улыбался и говорил:
— Пришла? Опять пришла?
— Пришла, — отвечала девочка.
— Что скажешь? — спрашивал он.
Но Юлианке, очевидно, нечего было сказать. Ухватившись за низко свисавшие ветви липы и подтянувшись, она усаживалась на подоконник.
— Пташка прилетела, — говорил музыкант улыбаясь.
И он начинал играть для «пташки». Он не играл ничего грустного; быстрые польки, томно-веселые вальсы, грациозные кадрили наполняли сонмом звуков комнату и вылетали за окно. Юлианка слушала, порой и подпевала в такт музыке. Тонкий голосок сливался с дребезжавшими звуками рояля. Музыкант смеялся.
— Пой! — говорил он хрипло. — Пой же, пой!
Юлианка пела все с большим увлечением, закинув голову и глядя черными глазами в небо, синевшее сквозь листву. Затем она обрывала песню и жалобно говорила:
— Есть хочу!
Музыкант вставал из-за рояля и давал девочке горсть лепешек от кашля. Иногда среди груды старых, покрытых пылью нот он обнаруживал кусок черствой булки или холодного паштета. Девочка грызла лепешки, с жадностью набрасывалась на мясо, а музыкант стоял подле нее у открытого окна. В его лихорадочно блестевших глазах появлялось выражение глубокой задумчивости. О чем он думал, машинально перебирая белыми тонкими пальцами густые кудри девочки? О навеки угасших честолюбивых стремлениях недавней молодости? О веселых друзьях, вместе с которыми мечтал о богатстве и славе? О прекрасной девушке, которую когда-то любил? О том, что у него никогда не было ни жены, ни детей? Об одиночестве, о нужде, о близкой смерти и своей заброшенной могиле, на которой прольет слезы только туча дождевая и которую никогда не украсит лавровый венок, пригрезившийся в юности?
Юлианке было ясно одно: когда он погружался в свои мысли, то кашлял сильнее и тогда, опомнившись, просил ее сойти с подоконника — надо закрыть окно, сквозняк вреден для здоровья. И девочка уходила на другой конец двора, чаще всего туда, где на темной низкой стене сверкали чисто вымытыми стеклами два окна, уставленных глиняными цветочными горшками.
За этими окнами открывалась просторная комната, светлая и опрятная, а в ней гудел токарный станок и весело потрескивал огонь в печке.
За станком с быстро вращавшимся колесом стоял токарь — седоватый, крепкий, с открытым приветливым лицом, облаченный в белый фартук. У окна шила молоденькая краснощекая девушка; на пестрый платок, крест-накрест перевязанный у нее на груди, спадала золотистая коса. Над станком висели готовые деревянные рамки всех видов и размеров, по углам стояли выточенные ножки для мебели и трости для зонтов. В открытую дверь виднелась небольшая кухонька и слышно было, как потрескивает огонь в печке. Красноватый отблеск пламени падал на противоположную стену, и над широкой постелью поблескивали иконы, оклеенные золотой фольгой.
Отец работал, то и дело вытирая фартуком пот со лба, дочь шила, а из кухни доносились голоса; низкий женский перебивали тоненькие детские.
Вскарабкавшись на лавочку, стоявшую снаружи, под окном, Юлианка занимала свое обычное место; тогда девушка с золотистой косой отрывалась от шитья:
— Папа! папа! Сиротка пришла!
Дом токаря был единственным, где Юлианку не называли «подкидышем». Сквозь шум токарного станка нельзя было разобрать, что отвечает отец, но из кухни неизменно выходила полная румяная женщина с ребенком на руках; другой сопровождал мать, держась за подол ее юбки.
— Боже милостивый, — говорила она, — а бедняжка все бродит, не в обиду ей будь сказано, бродит, как пес бездомный! Кахна, сбегай-ка за молоком!
Читать дальше