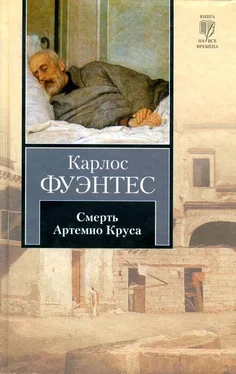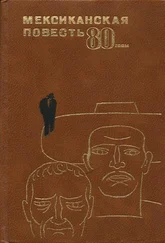Там, сзади, — густые заросли и дом, о котором грезил во сне мальчик, убаюканный солнцем. Эти почерневшие стены были подожжены, когда здесь проходили либералы, завершая после смерти Максимилиана поход против империи и встретив тут семейство, которое предоставило свои комнаты маршалу, командиру французов, а свои винные подвалы — войску консерваторов. В асьенде Кокуйя солдаты Наполеона Третьего запаслись провизией — нагрузили мулов вяленым мясом, фасолью и табаком, — перед тем как атаковать хуаристов в горах, откуда отряды мексиканцев нападали на французские биваки в долинах и на городские крепости в провинции Веракрус. Поблизости от асьенды Зуавы находили людей, игравших на виуэле и арфе и певших «Валаху ушел на войну и не захотел меня взять с собой», и весело проводили ночи с индеанками и мулатками, рожавшими потом белокурых метисов, светлоглазых мулатов со смуглой кожей, которые носили имена Гардуньо Или Альварес вместо Дюбуа или Гарнье.
Да, и в эти же самые скованные жарой полуденные часы старая Людивиния, навечно заточившая себя в спальне с нелепыми подсвечниками — два свисают с гладкого побеленного потолка, один торчит в углу над кроватью резного дерева — и пожелтевшими тюлевыми занавесками, старая Людивиния, которую обмахивает веером индеанка Баракоя, получившая — подобно всем мулатам асьенды — это негритянское имя, так мало подходящее к ее Орлиному профилю и блестящим косам, старая Людивиния бормочет, закрыв глаза, слова одной проклятой песни. Песню эту она в общем-то уже забыла, но непременно хочет вспомнить, потому что в песенке высмеивается генерал Хуан Непомусено Альмонте, который сначала был другом ее дома, кумом покойного Иренео Менчаки, ее, Людивинии, мужа, и принадлежал к свите генерала Санта-Аны, а потом, когда этот спаситель Мексики и великий покровитель семьи Менчака хотел вернуться из изгнания и высадился здесь, преодолев приступ дизентерии, Непомусено Альмонте отступился от своей исконной лояльности, помог французам схватить Санта-Ану и снова вернуть его на корабль. «Непомусено святой Хуан — дерьмо и болван». Людивиния представляет себе темное лицо Хуана Непомусено Альмонте — сына одной из тысячи девок, «ощипанных» священником Моралесом, — и кривит провалившийся беззубый рот, вспоминая игривую фразу из этой растреклятой песенки хуаристов, которые до смерти унизили генерала Санта-Ану: «…Как бы ты повеселился, если б вдруг со стороны налетели бы бандиты, умыкнули твою кралю и спустили б ей штаны…» Людивиния смешливо закудахтала и шевельнула рукой, чтобы индеанка быстрее махала над ней веером.
Печальная, побеленная известью опочивальня только казалась прохладной — здесь все тропические запахи растворялись в спертом и затхлом воздухе. Пятна сырости на стенах доставляли старухе удовольствие — напоминали о другом климате, о местах, где прошла ее юность до того, как она вышла замуж за лейтенанта Иренео Менчаку и связала свою жизнь и судьбу с судьбой генерала Антонио Лопеса де Санта-Аны, который пожаловал им плодородные земли у реки, черные земли и обширнейшие участки под горой и у моря. «Ненастье пришло из Франции, ненастье и непогода… Скончался Бенито Хуарес, а с ним умерла и свобода». Теперь лицо старухи сморщилось в недовольную гримасу, словно распалось на тысячу припорошенных пудрой струпьев и в то же время осталось целым под сетью голубых жилок. Дрожащая сухая рука Людивинии отослала Баракою прочь — шевельнулись рукава из черного шелка и манжеты из ветхих кружев. Стекло и кружево, но не только это. Столы из полированного тополя, на изогнутых ножках, с тяжелыми мраморными крышками, на которых покоились часы под стеклянными колпаками; навсегда замершие на кирпичном полу плетете качалки под чехлами; ломберные столики, медные гвозди, кованные железом сундуки, овальные портреты неизвестных креолов — мужчины прямогрудые, лощеные, с пушистыми бакенбардами, женщины с высокими бюстами и черепаховыми гребнями; жестяные подставки для святых; старый, обтрепанный, почти не сохранивший золотистых нитей гобелен с изображением св. младенца из Аточи; кровать на резных ножках под балдахином, украшенным посеребренной листвой, — хранилище безжизненного тела, гнездо из несвежих, разящих гнилью простынь и матраца, набитого слежавшейся, сбившейся к краям соломой, торчащей из дыр.
Пожар пощадил эту обитель. Пощадило ее известие об утраченных землях, и о сыне, убитом в засаде, и о ребенке, родившемся в хижине мулатов. Известие могло пощадить, но не интуиция.
Читать дальше