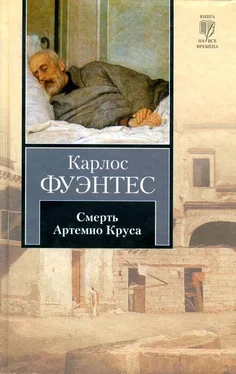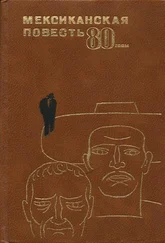Мать и сын смотрели друг на друга, разделенные стеной воскресшего прошлого.
(«- Ты пришел сказать мне, что у нас уже нет ни земель, ни величия; что другие так же взяли у нас все, как мы когда-то взяли все у исконных, у настоящих хозяев? Ты пришел поведать мне то, что я почувствовала давно — нутром своим, с первой же ночи своей супружеской жизни?
— Я пришел, воспользовавшись предлогом. Я пришел, потому что больше не хочу быть один.
— Я хотела бы припомнить тебя маленьким. Я любила тебя тогда, потому что молодая мать любит всех своих детей. С возрастом мы умнеем. Никого нельзя любить без причины. Родная кровь — не причина. Единственная причина — кровь, дорогая тебе без причины.
— Я хотел быть сильным, как мой брат. Я держал в строгости мулата и мальчишку; я запретил им подходить к большому дому. Так делал и Атанасио, помните? Но тогда было много работников. А теперь остались только мулат и мальчик. Мулат уходит.
— Ты остался один. Пришел ко мне, чтобы не быть одному. Думаешь, что я одинока; вижу это по твоим жалостливым глазам. Глуп, как всегда, и слаб. Ты не мой сын, Атанасио ни у кого не искал сострадания. Ты — это я, та, что была, когда вышла замуж. Сейчас — нет, сейчас я уже не та. Сейчас вся моя долгая жизнь со мной, это жизнь — со мной, а не старость. А ты — стар, ибо думаешь, что все кончилось, если ты поседел, стал пить, утратил волю. Вижу я тебя, насквозь вижу, слизняк! Ты — тот самый, что ездил с нами в горы, в столицу; тот самый, что думал: наша власть досталась нам даром, для того, чтоб кутить и пьянствовать, а не укреплять ее, поддерживать, пользоваться ею как кнутом; ты думал: наша сила навек нам дана и заботиться не о чем, а потому можно оставаться там, наверху, без нашей поддержки, когда мы снова спустились на эти жаркие земли, к этому источнику жизни, в этот ад, откуда мы вышли и куда опять ввергнуты… Запах! Есть запах более сильный, чем конский пот, аромат фруктов и пороховая вонь… Знаешь ли ты запах любви мужчины и женщины? Вот как пахнет здесь земля — влажная, горячая, а ты этого никогда не знал… Слышишь? Я тебя нянчила, когда ты родился, и кормила тебя, и говорила тебе: «Мой сын, мой», думала только о том мгновении, когда твой отец зачал тебя, ослепленный любовью, которая кипела не для того, чтоб породить тебя, а чтобы дать мне наслаждение; и память осталась, а ты исчез… Послушай, там, за окном…
— Почему вы ни слова не говорите, а только смотрите на меня? Ну ладно…ладно… Молчите. Все же это лучше — смотреть на вас здесь; лучше, чем валяться на голой кровати и глядеть в потолок по ночам…
— Ты ищешь живую душу? А этот мальчик, там, за окном? Разве он не живой? Ты, видно, думаешь, что я ничего не знаю, ничего отсюда не вижу… Будто я не могу чувствовать, что здесь рядом растет плоть от моей плоти, их воплощение, их, Иренео и Атанасио, еще один Менчака, еще один мужчина, такой, как они, там, за окном, послушай… Конечно, он мой, раз ты его не ищешь… Зов крови слышен издалека…»)
— Лунеро, — сказал мальчик, проснувшись, и увидел мулата, расплатившегося в изнеможении на сырой земле, — я хочу войти в большой дом.
Потом, когда все было кончено, старая Людивиния презрела свое затворничество и заковыляла, как бескрылая ворона, крича в заросшие папоротником аллеи, устремив глаза в заросли, подняв их к сьерре, словно слепая в этой непривычной ночной темноте, после своей кельи с вечно горящими свечами. Она простирала руки в поисках человека, которого искала за каждой ветвью, хлеставшей ее по лицу — маске в мертвенно-синих жилках. Вдыхала близость земли и кричала своим глухим голосом забытые и только что узнанные имена, кусала от ярости свои бескровные руки, ибо в ее груди что-то — годы, память, прошлое, составлявшее всю ее жизнь, — говорило ей, что существует жизнь за пределом ее воспоминаний, что можно и любить родное существо, кого-то, кто не погиб со смертью Иренео и Атанасио. Но сейчас, глядя на сеньора Педрито, в спальне, которую она не покидала тридцать пять лет, Людивиния связывала все вокруг живущее только с миром прошлого. Сеньор Педрито потер голый подбородок и снова заговорил, теперь уже вслух:
— Мама, вы ведь не знаете…
Взгляд старухи заставил сына умолкнуть на полуслове.
(«- Что я не знаю? Что все приходит к концу? Что былая наша сила опиралась на одни хвастливые слова, на несправедливость, которая погибла в результате другой несправедливости? Что враги, которых мы расстреливали, чтобы оставаться хозяевами… что враги, которым твой отец отрезал язык или руки, чтобы остаться хозяином… что враги, у которых твой отец отнял землю, чтобы сделаться хозяином, что они однажды оказались победителями и подожгли наш дом, оказались победителями и отняли у нас то, что не было нашим, то, что мы взяли силой, а не по праву? Что, несмотря на все это, твой брат отказался смириться с унизительным поражением и продолжал оставаться Атанасио Менчакой — жил не там, в столице, бездельником, как ты, а здесь, внизу, среди своих рабов, презирая опасность, насилуя мулаток и индеанок, а не обхаживая готовых отдаться женщин, как это делал ты? Что от сотен совокуплений твоего брата, свирепых, дерзких, поспешных, должен был остаться след, хотя бы один след на нашей земле? Что из всех сыновей, посеянных Атанасио Менчакой в наших необъятных владениях, хотя бы один должен был родиться вблизи отсюда? Что в тот самый день, когда в какой-то негритянской хижине родился его сын — как и должен был родиться, в самом низу, чтобы стать еще одним свидетельством силы отца, — Атанасио был…»)
Читать дальше