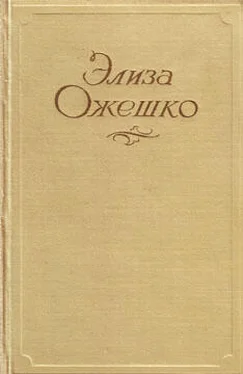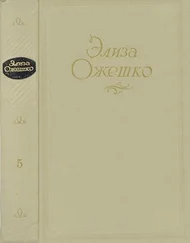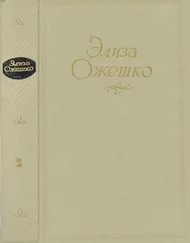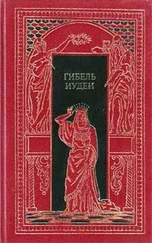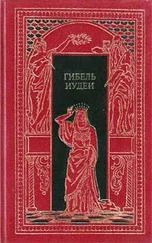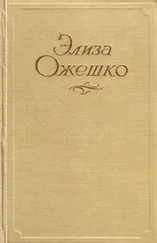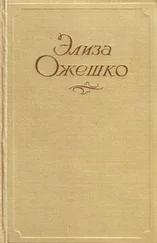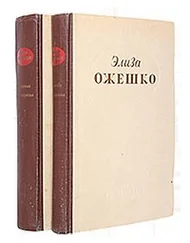Я осмелилась прервать ученый разговор и спросила, сколько ей платят за уроки. Она помрачнела и некоторое время молчала. Очень уж она не любила, когда ее расспрашивали о личных делах, и всегда усматривала в этом какой-то злой умысел. Однако на этот раз, может быть сообразуясь с правилами гостеприимства, а быть может, под влиянием сумерек, мягко окрашенных розовыми бликами огня, она кротко ответила:
— Что ж, вначале все шло совсем неплохо. Теперь несколько хуже — из-за сильной конкуренции…
— Конкуренции?
— Да, именно; нас, учителей, здесь пропасть! Вдобавок девушки, окончившие гимназию, знают больше, чем я, и учат лучше, поэтому-то им и достаются самые хорошие уроки…
Больше знают! Боже! Она ведь так много училась и обладала такой необыкновенной эрудицией!
— Было у меня раньше восемь уроков в день, — продолжала она, — а теперь только пять, и я очень боюсь… что на будущий год их станет еще меньше.
Она больше ничего по этому поводу не сказала, но добрых пять минут сидела на своей скамеечке молчаливая и задумчивая. В полумраке ее фигура казалась тонкой черной линией, только худые длинные руки белели на черном платье; на слегка выступавшее из темноты лицо падали отсветы огня, зажигавшего дрожащие искры в ее устремленных в пространство, неподвижных глазах. Задумчивость, каменная неподвижность позы и слово «боюсь», произнесенное ею впервые за годы нашего знакомства, давали много поводов для размышления. Но так продолжалось недолго, она быстро и легко поднялась, зажгла свечу и принялась накрывать на стол, заговорив опять о различных глубокомысленных предметах. А через час комнатку ее заполнила бедно одетая детвора. Я попросила у панны Антонины позволения остаться. Урок продолжался целых два часа, и ее комнатка превратилась на это время в настоящую маленькую вечернюю школу, где хором и в одиночку бормотали слоги по букварям, писали буквы и цифры в тетрадях и на грифельных досках, тыкали пальцем в различные точки висящей на стене карты, где провинившиеся стояли в углу и на коленях, где ставились плохие и хорошие баллы и т. д. Под конец панна Антонина рассказала детям очень красивую сказку собственного сочинения, в которой были и поэзия, и мораль, и всевозможные сведения об окружающем мире.
Дети, устроившись на полу в самых разнообразных позах, слушали с огромным интересом, разинув рты, не сводя с нее широко раскрытых глаз. Панна Антонина сидела посредине на скамеечке и с необыкновенным увлечением и соответствующей мимикой, жестикуляцией и интонациями рассказывала свою сказку, после чего разделила между учениками каравай черного хлеба, ломоть которого и сама съела с большим аппетитом. Потом комнатка снова опустела, стало тихо. Огонь в печке погас; было десять часов.
При свете единственной свечи лицо панны Антонины показалось мне очень усталым, взгляд ее потух и она слегка сгорбилась, бессильно опустив руки на платье, усыпанное крошками черного хлеба, заменившего ужин. Когда я попрощалась с ней и уже собралась уходить, она, погасив свечу, зажгла маленький ночничок, висевший в углу.
— Разрешаю себе эту роскошь, — проговорила она, — так как не люблю темноты, а по ночам я частенько не сплю.
Кто же угадает и расскажет, о чем она думала, что чувствовала в те часы, когда, лежа без сна на своей жесткой, узкой постели, водила глазами по стенам и потолку, на которых отбрасываемые мебелью зыбкие тени то меланхолично сливались, то расплывались в полосах бледного света.
* * *
По разным причинам я не встречалась с панной Антониной более трех лет. Когда я осведомилась о ней у дворника того дома, где я была у нее в последний раз, он ответил, что она давным-давно здесь не живет. Мне пришлось довольно долго наводить справки и разыскивать ее, прежде чем я, наконец, выяснила, где она находится. В этом не было ничего удивительного: она уже несколько месяцев нигде не показывалась.
Войдя в длинный, узкий больничный коридор с белоснежными стенами и сверкавшим, как зеркало, паркетом, я спросила у проходившего мимо служителя, как попасть к больной, которую я пришла проведать. По обе стороны коридора тянулись два длинных ряда дверей. Он указал мне на одну из них. Я вошла в комнатку, но на этот раз она была без обоев с полевыми цветочками, без картинок, канарейки и цветущей герани. Черные прутья железной кровати тонкими линиями вырисовывались на стенах, белых, как снег, и настолько высоких, что приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть потолок. За огромным незавешенным окном с подобранной кверху желтой шторой, в густом осеннем тумане слегка покачивались голые верхушки тополей в больничном саду. Напротив окна высокая, до блеска отполированная дверь, около кровати железный столик, у противоположной стены стол и две желтые табуретки. Здесь было чисто, светло, голо, печально и невыносимо тоскливо. В хорошо протопленной и проветренной комнате чувствовался едва уловимый холодок и тошнотворный запах лекарств.
Читать дальше