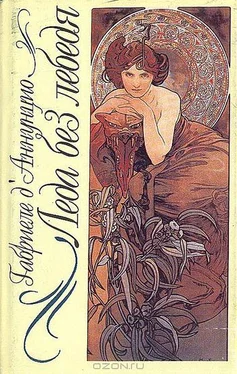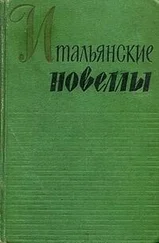Я думаю о Масличной горе, что кажется далекой, как самая далекая вершина в веках, как та гора Похищенных певцов. Ни часа настоящего, ни часа будущего больше нет. Мой дух — вечеря мудрых, созванных из недр сознанья моего. И ежели не плачу я, то потому, что знаю: есть во вселенной плач, вобравший боль — не той чета, что выразилась в страданье плачущего. И видится мне Александр, склонивший на левое плечо главу под львиной гривой, и влажен взгляд его.
И что-то неведомое трогает меня. И мысли, что теснятся со всех сторон, из всех времен, мне стягивают разум, как сандальи на ступнях женщины, уставшей от воспоминаний. И вопрошаю душу я свою: тот свет, что воссиял в лице людей, ослаб иль стал ярчее?
— Парвати, твои власы не трепещут ли под ветром, что веет издалека? Твое чело не тяготит венец, его не увенчавший? Я сплю, а ты не спишь? Иль мне привиделось, что ты спала? И что тебе приснилось?
Парвати молвит:
— Мне снилось, что кто-то связал мне ноги тетивою лука и танцевать заставил. Мне снилось, что кто-то зашил мне губы алой нитью, из крови вытканной, и петь заставил.
Я жажду того, что в ней незримо, и вопрошаю:
— А что за мысль тебя томит?
Парвати молвит:
— Я думаю о нашем святом, что львиц ловил и заставлял доить их, а после приказывал собрать то царственное молоко и разливал его по стеблям тростника, чтоб напоить всех жаждущих.
— А что еще за мысль томит тебя?
— Я думаю о зеркале, которое повесила себе на спину на двух тесемках, свиставших с плеч, когда служила в пагоде, с тем чтобы образ божественный мог видеть пред собою рвенье молящейся толпы. И поступь моя была подобна шагу той, что никогда колен не размыкала и двигалась бесшумно, не оступаясь, не пошатываясь. Все для того, чтоб зеркало ни разу не солгало, чтобы ничто не замутило истинность его.
Она прекрасна, как прекрасны очи, прежде чем из них изольется первая слеза, прекрасна, словно грусть вечерняя, прежде чем дыханье веспера ее коснется.
— О лотоса цветок, о василек из моего болота, как можешь ты ковать мою бронзу листом столь нежным и столь хрупким?
Моя тоска как будто растворяется в чуть слышном пенье.
— Азия, Азия, ты, что носишь прах веков, как семена без счета, ты, что хранишь все страхи и надежды бытия, ты, что прикрываешь свою тайну золотом ресниц, и ни один еще завоеватель мечом железным не смог сломить печати той!
Жизнь столетий пробуждается и клокочет: в душе ли страждущего? Иль в горле жаждущего? Десятый вал, мощнейший, обширнейший, меня настиг и накрывает, топит, сокрушает. Как может человек родиться там, где взвихряется могучая волна?
— О Парвати, сердце мое смешалось с музыкою моря: не того, что омывает Содом и Энгадди, а того, что омывает Делос с Лесбосом. О жизнь, люблю тебя!
И молвит женщина:
— Люби ее. Чем жизнь к тебе жесточе, тем больше ты ее люби. Любовь сладка, и самое ее коварство слаще всего на свете, кроме разве смерти, что освещает надежды живущих, смерти, что дарит свет, и человечьи руки более часа не в силах удерживать тот свет.
Наверно, я ее люблю. Она богата и новыми лучами, и древним ароматом. И втрое тяжелей одной из душ моих, той, что любит: оттого, что она бессмертна, бессонна, бесслезна. И чудится, как стонет чей-то глас во мне: «О Боже, будь я лишь человеком, будь доволен тенью, угнездившейся в плоти моей, будь закован во тьме сердец и внутренности, так не получил бы от тебя права на воздаяние!»
Парвати приближается. И вдруг протягивает мне фиал, наполненный напитком исступленья.
— Ты истомлен печалью. Вот, выпей глоток и позабудь о всем, опричь своей возлюбленной печали. Нет на свете духа сильнее дуновения весны. Позволь мне краешком листа моего лотоса выковать красную твою бронзу. Люби меня. Заклинаю тебя тем тайным чудом, что ласточка вершит под моей застрехою!
Отталкиваю ее фиал; беру ее губы.
Все вокруг нас так мягко, нежно, все — ненасытное блаженство. Вот подошвы ее сандалий, тонкие, как виноградный лист. Вот кофр, в котором ее белила, масти, благовонья. Вот факел из сердцевины тростника, покрытый пеленою восковою. Вот флейта и ее футляр из древа благовонного. Вот переметная сума, в которой хранятся все сорта семян для огорода. А вот кимвалы из благозвучного самшита. А вот коробочки для специй и отдушек. Вот утренний челнок, что просыпается и вместе с ласточкой стрекочет. Вот покрывало девственницы-жрицы, которое однажды ночью она нашла развешенным на ветвях бергамота, и ей почудилось, что серебристый свет его затмил сиянье полнолунья.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу