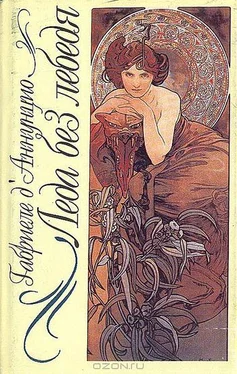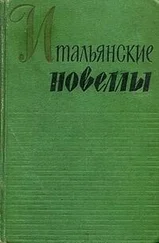Его накрыла облачная тень.
— О Сын Человеческий, Сын Божий, воскреси его! — кричит среди молчанья мужской голос. — Позови Елиашива! Позови его!
Но Сын Человеческий не в силах воскресить умершего. Идущий на смерть не в силах воскресить уже умершего. И незачем его напрасно звать. И он молчит, бездвижен в молчанье, столь же непререкаемом, как и молчанье раздувшихся останков меж камнем и водой.
Он одинок. Все одиноки.
— Не извлечет Господь ноги мои из сети, что скрытно поставили они для меня.
Он мучится в догадках сердца моего, он мучится в стремленье узнать свою кончину, узнать, как он окончит дни свои.
— Господи, рука твоя найдет всех врагов моих, десница твоя найдет всех, ненавидящих меня. Не скрой от меня лица твоего!
Он одинок, так быть должно. И ненависть вдруг вырвалась из чрева храма, схватила камни, чтобы побить его; он уклоняется, он отступает, скрывается на Масличной горе, гнездится в горе своего горя. Он одинок, так быть должно. Я не иду за ним. И боль его простерта со мною вместе от востока до запада. Это последний сон мой на возвышенности Акравимской.
— Я видел одиноких, смеющихся над болью в колючем терне и волчце, и понял я, что слушают они изреченную боль Господню, откровенную и вечную красоту.
Так молвит мне Парвати в маленькой хижине Агры, где сокрыта ее благость, как благость ибиса в папировой клетке. А я смеюсь над теми, кто тщится узнать земной предел и измеренье времени. Я оглушен тем грохотом, что эхом отдается во всем существе моем; подобно раковине морской, я полон далей и веков, полон фигур и тайн, я полон горизонтов и лабиринтов.
Кто еще вчера на берегу Иордана, на краю пустыни Иудейской, в долине той уединенной, в чащобе ив и тамарисков, окропил водой свои худые плечи?
И из каких глубин веков спустился на берег Ганга тот искупитель, чтоб окропить себя, очистить свою смертную оболочку от мрачных знаков слишком долгой и кровавой борьбы, чтоб опуститься на колени, и вперить в небо взор, и к смерти воззвать, и умереть пронзенным стрелою, и быть подвешенным на дереве злодеями на растерзанье коршунам?
Парвати молвит:
— О вода, освященная пятью благовоньями и молитвою, из моря ль, из реки, из ручья ль, из болота, иль из купели течешь, чиста, чтобы меня очистить, ты — суть жертвоприношенья, ты — исток свободы!
Из дальнего далека прислала она немного воды своего Ганга в небесно-голубом кувшине и, чтоб сохранить, напоила ее мастями и благовоньями.
А в темном узкогорлом кувшине прислала несколько глотков напитка, что вызывает бред, и вдохновляет оракулов, и вселяет божественное забвение в души девственниц, приверженных святилищу.
А с ними прислала свой цвет жасмина, что сверкает, подобно ее зубам, благоухает, как ее дыханье; она его выкопала в маленьком саду Агры и скрестила со смоковницею, что растет в Иерусалиме, многие ее считают древом терпения святого, другие же — безумия святого.
Парвати молвит:
— Свет моего сада, отдели от сикомора одну из твоих веток, самую гибкую, и обвей меня, как прежде обвивал.
Прежде она была одной из жриц в священной пагоде — поддерживала жертвенный огонь, и танцевала перед святой повозкой, и пророчила в забвенье, забвенье навевая нищим и ничтожным.
Ей ведомо, что тяга к божественному, страсть к забвенью, и жажда спасения, и жертвенный порыв к обновленью перепахали глубокие недра ее страдающего племени до того, как пастух египетский и пастух иудейский повели первые стада свои, до того, как дочь фараона наткнулась на корзину, сплетенную из тростника, до того, как Фивы семивратные, и Фивы стовратные, и Афины победные, но без эгиды, и Рим триумфальных арок, и Вавилон с его хрупкими стенами были основаны полубогами и царями.
— Скажи мне, Парвати, слышится ли до сих пор вдоль Ганга твоего плач Александра? И жив ли там до сей поры тот скорбный, бедный люд, что не желал богатством обладать и что раскапывал могилы своих умерших на пороге своих лачуг, и украшал их, и молился под сенью бога своего?
Парвати молвит:
— Я верую, что слышно до сих пор, как царь того народа ответствует Двурогому: «Могилы есть наши двери, пороги жизни истинной, пределы света и тени». Я верую, что слышно до сих пор, как он ответствует Двурогому: «Нищета ведет нас все дальше и все выше, туда, куда нет доступа твоим суетам». Я верую, что слышно до сих пор, как он ответствует Двурогому: «Ты смущен, Искендер? Насытился ли ты блаженством мира? Ты сыт? И на который из этих голых черепов похож будет твой череп, Искендер?» Двурогий сжимает в объятиях его и приглашает: «Иди. Пойдем со мной. Оставь со мною царство и блага всей моей огромной славы». А тот ответствует: «Довольно мне лишь того блага, что моя молитва дарит моей душе убогой. Спешу тебя оплакивать». И Великий плачет великими слезами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу